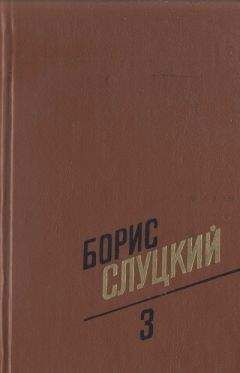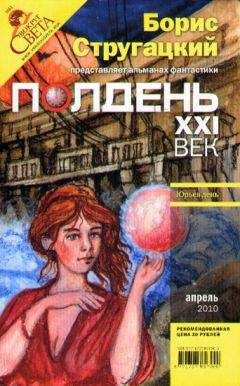«Польский гонор и еврейский норов…»
Польский гонор и еврейский норов
вежливость моя не утаит.
Много неприятных разговоров
мне еще, конечно, предстоит.
Будут вызывать меня в инстанции,
будут голос повышать в сердцах,
будут требовать и, может статься,
будут гневаться или серчать.
Руганный, но все-таки живой,
уличенный в дерзостном обмане,
я уйду с повинной головой
или кукиш затаив в кармане.
Все-таки живой! И воробьи,
оседлавшие электропроводку,
заглушат и доводы мои,
и начальственную проработку.
«Стихи, что с детства я на память знаю…»
Стихи,
что с детства я на память знаю,
важней крови,
той, что во мне течет.
Я не скажу, что кровь не в счет:
она своя, не привозная,—
но — обновляется примерно раз в семь лет
и, бают, вся уходит, до кровинки.
А Пушкин — ежедневная новинка.
Но он — один. Другого нет.
Добавить — значит ударить побитого.
Побил и добавил. Дал и поддал.
И это уже не драка и битва,
а просто бойня, резня, скандал.
Я понимал: без битья нельзя,
битым совсем другая цена.
Драка — людей возвышает она.
Такая у нее стезя.
Но не любил, когда добавляли.
Нравиться мне никак не могли,
не развлекали, не забавляли
морда в крови и рожа в пыли.
Слушая, как трещали кости,
я иногда не мог промолчать
и говорил: — Ребята, бросьте,
убьете — будете отвечать.
Если гнев отлютовал,
битый, топтанный, молча вставал,
харкал или сморкался кровью
и уходил, не сказав ни слова.
Еще называлось это: «В люди
вывести!» — под всеобщий смех.
А я молил, уговаривал. — Будя!
Хватит! Он уже человек!
Покуда руки мои хватают,
покуда мысли мои витают,
пока в родимой стороне
еще прислушиваются ко мне,
я буду вмешиваться, я буду
мешать добивать, а потом добавлять,
бойцов окровавленную груду
призывами к милости забавлять.
Не воду в ступе толку,
а перевожу в строку,
как пишется старику,
как дышится старику,
и как старику неможется,
и вовсе нельзя помочь,
и как у него итожится
вся жизнь в любую ночь.
Я это в книжках читал,
я это в фильмах глядел,
но я отнюдь не считал,
что это и мой удел.
Оказывается, и мой!
И, мыкая эту беду,
я, словно к себе домой,
в обычную старость бреду.
Как правильно я поступал,
когда еще молодым
я место в метро уступал
морщинистым и седым.
СЛИШКОМ МНОГО ЖИЗНЕННОГО ОПЫТА
Снова много жизненного опыта,
может быть, не меньше, чем в войну,
опыта, что тяжелее топота
вдоль тебя,
во всю твою длину.
Многое усвою и запомню.
Многое пересмотрю
во всемирном нравственном законе,
но — покорнейше благодарю!
Возраст — не учебный, а лечебный,
и, напоминая свет свечей,
вечера, заката свет волшебный
смазывает контуры вещей.
ПО ТЕЧЕНЬЮ И ПРОТИВ ТЕЧЕНЬЯ
Психиатры считают, что плыть по теченью
в переносном ли смысле
и даже в прямом —
помогает!
И даже при кровотеченьи!
Позволяет жить с пользой
и даже с умом.
Запасной, стало быть, открывается выход,
и возможность еще появилась одна
не решенья задач —
получения выгод,
то есть вместе с рожном,
а не против рожна.
Сброшу с плеч все мешки.
Поплыву налегке.
По теченью!
Соломинкой!
Вниз по реке!
Отдохну от усилья и ожесточенья
и махну,
как бывалоча,
против теченья.
С бытием было проще.
Сперва
не давался быт.
Дался после.
Я теперь о быте слова
подбираю
быта возле.
Бытие, все его категории,
жизнь, и смерть, и сладость, и боль,
радость точно так же, как горе, я
впитываю, как море — соль.
А для быта глаз да глаз
нужен, также — верное ухо.
А иначе слепо и глухо
и нечетко
дойдет до нас.
Бытие всегда при тебе:
букву строчную весело ставишь,
нажимаешь нужный клавиш
и бормочешь стихи о судьбе.
В самом деле, ты жил? Жил.
Умирать будешь? Если скажут.
А для быта из собственных жил
узел тягостный долго вяжут.
«Спасибо Вам за добрые слова…»
Спасибо Вам за добрые слова,
которых для меня не пожалели,
за то, что закружилась голова,
гиперболы прочтя и параллели.
В претензии останусь я едва ли,
хотя, конечно, в честь такого дня
Вы чуть преувеличили меня,
прикрасили и прилакировали.
Вы выполнили славную задачу,
мешками фраз засыпали провал,
перехвалив меня за недохвал,
воздав сторицею за недодачу.
Стою под сладостным и золотым
дождем, неисчислимым и несметным,
и впитываю влажную латынь
присущего моменту комплимента.
«Ткал ковры. И продавал — внарез…»
Ткал ковры. И продавал — внарез.
Брали больше голубое, розовое.
А на темное — и цены бросовые.
Темное не вызывало интерес.
В самом деле: после дня работы
и расцветка много говорит.
Разве должен добавлять заботы
человеку колорит?
Нет, не должен. Красное и синее
вызывали чувства сильные.
Подходили! И к любой стене.
Оставалась темнота — при мне.
Покупатель говорит: «Не та
краска! Только портит настроение».
Скапливалась эта чернота,
и жужжало этих мух роение.
Покупатель говорит: «Не тот
тон и для квартиры мрачен слишком».
Свет уходит, но запас растет
мрака. Черным предаюсь мыслишкам.
Тем не менее я занимался делом,
кто бы ни советовал и что:
белое я ткал, как прежде, белым.
Черное же белым — ни за что.
Мы должны друг другу. Я — за колбасу,
съеденную на газете.
Мне — за ношу, ту, что я несу
на закате, на рассвете.
Я — и за рассвет и за закат,
тот, что на пейзажи нахлобучен.
Мне — за то, что языкат
и писуч, слагать стихи обучен.
Я — за каждый прожитый мной день.
Мне — за то, что день, прожитый мною,
не умножив дребедень,
суть запечатлел перед страною.
Этот долг двойной, взаимосвязь
выручки, взаимная порука
все растет с годами, становясь
невозможностью жить друг без друга.
Как бы ни была расположена
или не расположена
власть,
я уже получил что положено.
Жизнь уже удалась.
Как бы общество ни информировалось,
как бы тщательно ни нормировалась
сласть,
так скупо выделяемая,
отпускаемая изредка сласть,
я уже получил все желаемое.
Жизнь уже удалась.
Я — удачник!
И хоть никуда не спешил,
весь задачник
решил!
Весь задачник,
когда-то и кем-то составленный,
самолично перед собою поставленный,
я решал, покуда не перерешил.
До чего бы я ни добрался,
я не так уж старался,
не усиливался, не пыхтел
ради славы и ради имения.
Тем не менее —
получил, что хотел.