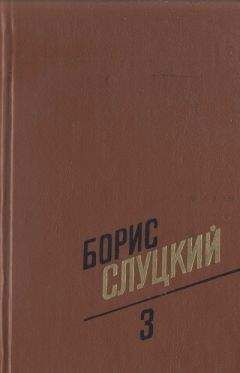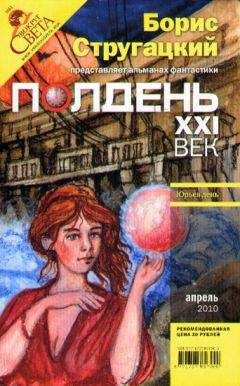«Мир, какой он должен быть…»
Мир, какой он должен быть,
никогда не может быть.
Мир такой, какой он есть,
как ни повернете — есть.
Есть он — с небом и землей.
Есть он — с прахом и золой,
с жаждущим прежде всего
преобразовать его
фанатичным добряком,
или желчным стариком,
или молодым врачом,
или дерзким скрипачом,
чья мечта всегда была:
скатерть сдернуть со стола.
Эх! Была не была —
сдернуть скатерть со стола.
Если б Мейерхольду «Маскарада»
площадной явился Мейерхольд,
Мейерхольд забора и парада,
совершивший непостижный вольт, —
что бы фрачник блузнику сказал бы,
что бы куртке кожаной сказал
этот выспренний, как тронный зал,
и надменный, словно герцог Альба?
Он сказал бы: «Я не знал, что так
повернется. Впрочем, так не плоше.
На ребре давно стоял пятак.
На орла, на решку? В царской ложе
новые властители сидят,
но спектакль — только мой глядят».
Он сказал бы: «Только впереди
место мое. Только так умею,
позади же сразу я немею,
чувствую стеснение в груди».
Он сказал бы: «Власть —
редкостная сласть и
всепоглощающая страсть.
Кто откажется, когда дается?
Ведь: под блузой чаще сердце бьется.
Это не купить и не украсть».
Он сказал бы: «Прежде я не думал
про народ, но он ведь есть, народ!
Он меня с меня как пену сдунул,
взял с собой, пустил в свой оборот».
Думаю, они б договорились,
фрачник с блузником, они б сошлись
на таком понятии, как жизнь,
радость жизни, горечь, милость.
Вряд ли разговор бы длился долго,
вряд ли был бы долог бой
разных категорий долга
пред собой и пред судьбой.
«Гамлет этого поколения…»
Гамлет этого поколения
самосильно себе помог.
Если надо — в крови по колени
проборматывал свой монолог.
Он, довольный своими успехами,
управляя своею судьбой,
шел по сцене, бряцая доспехами:
с марша — прямо бросали в бой.
Как плательщик большие налоги
не желает уплачивать в срок,
не любил он свои монологи
и десятки выбрасывал строк.
Что ему были вражьи своры?
Весь он был воплощенная месть!
Исполнял он свои приговоры
прежде, чем успевал произнесть.
Только соображения такта
режиссерам мешали порой
дать на сцене хотя бы пол-акта
под названием «Гамлет — король».
В голову никогда б не пришло,
что «не быть» — это тоже возможность,
и актеры на полную мощность
правили свое ремесло.
Ни сомнений и ни угрызений,
ни волнений и ни размышлений
знать тот Гамлет не знал нипочем,
прорубаясь к победе мечом.
Я был росою.
Я знал, что высохну
и в пору зноя
и нос не высуну.
Но в час вечерний,
а также утренний
я снова выпаду
на прежнем уровне.
Участвуя в круговороте,
извечно принятом в природе,
воспринимал я поражения
не только как сплошные беды,
но как прямое продолжение
счастливых радостей победы.
Мне с первым снегом вместе таять
казалось детскою игрой.
Я знал, что вскоре прилетает
снег следующий,
снег второй.
То чувство локтя,
чувство цепи,
в котором хоть звено — мое,
обширнее тайги и степи,
таинственней, чем житие
святого, что, кладя на плаху
главу,
свою беду влача,
сочувствовал тихонько страху
перед грядущим —
палача.
Полутьма и поля, в горизонты оправленные,
широки, как моря.
Усеченные и обезглавленные
церкви
бросили там якоря.
Эти склады и клубы прекрасно стоят,
занимая холмы и нагорья,
привлекая любой изучающий взгляд
на несчастье себе и на горе.
Им народная вера вручала места,
и народного также
неверья
не смягчила орлиная их красота.
Ощипали безжалостно перья.
Перерубленные
почти пополам,
небеса до сих пор поднимают,
и плывет этот флот
по лугам, по полям,
все холмы, как и встарь, занимает.
Полуночь, но до полночи — далеко.
Полусумрак, но мрак только начат.
И старинные церкви стоят высоко.
До сих пор что-то значат.
Все печки села Никандрова — из храмовых кирпичей,
из выветренных временами развалин местного храма.
Нет ничего надежнее сакральных этих печей:
весь никандровский хворост без дыма сгорит до грамма.
Давным-давно религия не опиум для народа,
а просто душегрейка для некоторых старух.
Церковь недоразваленная, могучая, как природа,
успешно сопротивляется потугам кощунственных рук.
Богатырские стены
богатырские тени
отбрасывают вечерами
в зеленую зону растений.
Нету в этой местности
и даже во всей окрестности
лучше холма, чем тот,
где белый обрубок встает.
Кирпичи окровавленные
устремив к небесам,
встает недоразваленный,
на печки недоразобранный.
А что он означает,
не понимает он сам,
а также его охраняющие
местные власти и органы.
А кирпичи согревают — в составе печей — тела,
как прежде — в составе храма — душу они согревали.
Они по первому случаю немного погоревали,
но ныне уже не думают, что их эпоха — прошла.
За привычку летать
люди платят отвычкою плавать,
за привычку читать
люди платят отвычкою слушать,
и чем громче
у телевиденья слава,
тем известность
радиовещанья
все глуше.
Достиженье
и постиженье,
падая на чашку весов,
обязательно вызывают стяженье
поясов.
И приходится стягивать
так, что далее некуда.
Можно это оплакивать,
но обжаловать некуда.
Сначала звонил телефон,
но дело кончалось набатом,
который, как взорванный атом,
ревел в упоеньи лихом.
Гудки или, скажем, звонки,
которые слышались в трубке,
звучали предвестием рубки,
ломающей все позвонки.
В эпоху такую и дату
ничуть телефон не плошал,
звонил, награждал и лишал,
трещал, вызывал нас куда-то.
Ниспосланный лично судьбой,
ее представлял интересы,
звонил убедительно, трезво
и звал то на суд, то на бой.
Молчащие. Их много. Большинство.
Почти все человечество — молчащие.
Мы — громкие, шумливые, кричащие —
не можем не учитывать его.
О чем кричим — того мы не скрываем.
О чем,
о чем,
о чем молчат они?
Покуда мы проносимся трамваем,
как улица молчащая они.
Мы — выяснились,
с нами — все понятно.
Покуда мы проносимся туда,
покуда возвращаемся обратно,
они не раскрывают даже рта.
Покуда жалобы по проводам идут
так, что столбы от напряженья гнутся,
они чего-то ждут. Или не ждут.
Порою несколько минут
прислушиваются.
Но не улыбнутся.