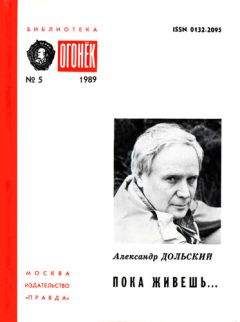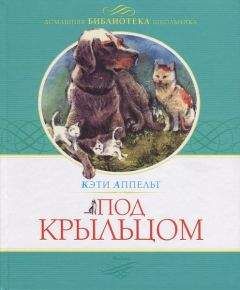БАЛЛАДА О БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШЕМ
Меня нашли в четверг на минном поле.
В глазах разбилось небо, как стекло,
и все, чему меня учили в школе,
в соседнюю воронку утекло.
Друзья мои по роте и по взводу ушли назад,
оставив рубежи, и похоронная команда
на подводу меня забыла в среду положить.
И я лежал и пушек не пугался,
напуганный до смерти всей войной,
и подошел ко мне какой-то Гансик
и наклонился тихо надо мной.
И обомлел недавний гитлерюгенд,
узнав в моем лице свое лицо,
и удивленно плакал он,
напуган моей или своей судьбы концом.
О жизни не имея и понятья,
о смерти рассуждая, как старик,
он бормотал молитвы ли, проклятья,
но я не понимал его язык.
И чтоб не видеть глаз моих незрячих,
в земле немецкой мой недавний враг,
он закопал меня, немецкий мальчик,—
от смерти думал откупиться так.
А через день, когда вернулись наши,
убитый Ганс в обочине лежал.
Мой друг сказал — как он похож на Сашу!
Теперь уж не найдешь его, а жаль...
И я лежу уже десятилетья
в земле чужой, я к этому привык
и слышу — надо мной играют дети,
но я не понимаю их язык.
Как медленно, мелко, зерно за зерном,
за фактом, словцом и намеком
фрагмент проявляется, но полотном
еще не насыщено око.
И нищим, сбирающим истины медь
на паперти нового храма,
стоишь, притворяясь осанну запеть,
в итоге немея от срама.
Но многие годы блужданий и встреч
под фресками вечных сюжетов
доводят до пения темную речь
и головы до пистолетов.
И соединенье молекул житья
в реторте общественной кухни
с натужным познаньем приемов битья
и катализатор непрухи
дают непрозрачную горькую смесь —
лекарство от рабства и лени,
веселую глупость и скромную спесь —
воспитанный ген поколений.
И действует тот проявитель года,
когда фотография духа
былых поколений — являет стада,
лишенные зренья и слуха.
И только желудок и чресел медок
тревожат мозги или мышцы...
И разум течет, как течет потолок
в квартире, где пьянство и мыши.
В обители лжи поклоненье волхвов
в параграфе сна и тумана,
и в норме — склонение мудрых голов
под саном и словом болвана.
Но что же картина, сиречь полотно?..
и дышит ли в нас реставратор?..
Кора макияжа засохла давно —
бессильны фланель или вата,
сдирай по живому!.. иные куски
слиняют змеиною кожей.
Химеры, живущие в чреве тоски,
на истину слабо похожи.
Реальных чудовищ расчищенный лик
ужасней Харибды и Сциллы...
Но ты же философ, ты к крови привык
и ложкой хлебаешь бациллы.
О, музыка средних и ближних веков!..
палитра Дали и Пикассо!..
о, время мое в аксельбантах оков,
мои проходные и кассы!..
Безумна история русской души,
печальней шекспировской сказки.
И счастливы только российские вши,
и тоже по чьей-то указке.
Еще не доигран двадцатый хорал —
гигантская страстная фуга...
И бог здесь не первую скрипку играл,
его отодвинули в угол.
Август в звездные метели гонит нас из дома...
Самолет мой — крест нательный у аэродрома.
Не к полетной красоте ли вскинут взгляд любого?.
Самолет мой — крест нательный неба голубого.
Злится ветер — князь удельный в гати бездорожной...
Самолет мой — крест нательный на любви безбожной.
Свет неяркий, акварельный под стрелой крылатой...
Самолет мой — крест нательный на любви проклятой.
Я сойти давно хочу, да мал пейзаж окрестный.
Распят я, и нету чуда, что летает крест мой.
Даль уходит беспредельно в горизонт неявный...
Самолет мой — крест нательный на тебе, и я в нем.
Нас стравили, как мышей, как клопов и тараканов.
Мы тупели, с малышей превращались в истуканов.
К нам влезали в явь и в сон, и в карманы, и в стаканы,
заставляли в унисон распевать, как обезьяны.
Нас кормили, как зверей, стадо в очередь поставив.
и камнями алтарей побивали и постами
многолетними уста иссушали, замыкали,
и боялись мы куста, и моргали, и икали.
И икотный этот ген передали нашим чадам.
Он боится перемен, соответствуя наградам.
Узнавали мы в лицо — вот начальник! вот начальник!
Предавали мы отцов и мычаньем, и молчаньем.
И не взыщут с нас отцы... Что удобно, то затенькал.
Даже лучшие певцы распевают ложь за деньги.
Эта дикая игра все ломает, все итожит,
и пора «ура! ура!» заменить на «боже! боже!»
Господин Великий Нов-город мой любимый Питер,
Ирод с Вами был не нов и Пилат, что вымыл, вытер.
Я пророчествую Вам — Ваше имя возродится!
Возлетает к небесам недостреленная птица.
Четверть шестого.
утро, с балкона упала книга,
молятся рядом баптисты,
это осенний Львов.
Это жестоко —
на простыне нарисована фига —
черный фломастер на белом батисте.
Не состоялась любовь.
К чести твоей, донна Анна,
рыло Хуана
тут же за книгой ныряет с балкона
(астма и фальшь об асфальт)
и замирает, как тело геккона.
если снято оно на стеклянной пластинке,
а напротив окно медленно едет по дому к трубе
водосточной,
как рука в маникюре к ширинке,
только грубей
и восточней.
Мне говорили, как стать сумасшедшим,
чтоб не маячить в прицеле душмана.
И вот я вернулся оттуда
и совсем позабыл о прошедшем
времени, где корешался с дурманом.
Видишь, мамуля,
как мясо мое муравьи облепили,
сделана пуля
в Чикаго, а может, в Шанхае.
Она разлетелась в груди наподобие пыли.
И вот я по небу шагаю,
ибо меня призывают, как наш подполковник, Аллах
Саваоф, Озирис и Ярила, и Яхве.
Я им устроил подобие конкурса
по шестибалльной системе,
чтобы мой прах
сторговать за цистерции, франки и драхмы.
Хитрость же фокуса
в том, что я жив, но не в вашей системе
солнечной (это имею в виду я).
Ты же меня наблюдаешь своим изумительным глазом,
словно я в этой. Позволь, но понятья введу я
новые не постепенно, а сразу.
Так материнское горе —
это знакомо, весомо и нужно,
когда сыновья получают оружие,
но вскоре
становится ясно предельно —
это досадная блажь
для губернаторов, что проживают отдельно
от неудобства, от пьянства и краж,
от призыва детей,
от смертей,
и, говоря языком площадей,
от народа.
Это свобода,
что недоступна сознанью людей,
как недоступны философы прошлого века
в библиотеках,
что охраняются дамами с низкой зарплатой.
Нет виноватых.
Мненье скорее мое, чем Тацита,—
не колбаса, или сахар и пиво,
или салфетки для нежного зада —
суть дефицита.
Честь и достоинство, то, что красиво
для маленькой мышцы в груди
или взгляда
на мир, как на поле добра и привета.
Серость привита
с казни Сократа,
С казни крестьянства в тридцатых.
Нет виноватых...
Рана моя — это искусство
высокого тона,
что убито, зарыто, забыто
(без стона
над нами сидящих прокрустов),
ричину всегда отделяют пространства, века или годы
Для примера,
скажем, и Пушкина нет без Овидия или Гомера.
Нет современного лауреата
без непросвещенных князей,
без Малюты, малюток и прочих друзей,
без плановой нищей зарплаты.
Нет виноватых...
Мама, в твоей голове копошатся химеры
(а по траве снова идут и поют пионеры).
Жизнь продолжается, мама,
и старики
умирают с тоски,
и молодые стареют упрямо.
юноши пьяные лапают дев,
что не умеют продаться за сотню ворам.
Халат сумасшедший на тело надев,
гуляет твой дух по гератским дворам.
Ищешь ты сына...
Видишь — мой череп валяется у магазина.
Нищий душман собирает в него подаянье.
Сам без ноги, без руки и без глаза...
Череп, как ваза,
полон купюрами сотенного содержанья
с профилем Ленина, нам дорогим.
Наши враги
продают на чужбине мое покаянье.