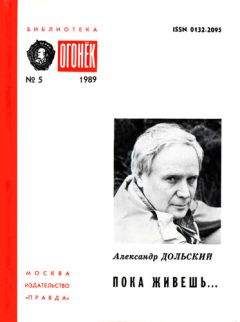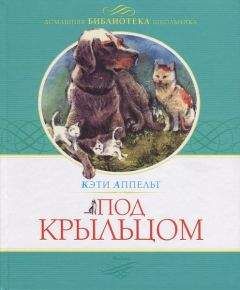ЖЕСТОКАЯ МОЛОДЕЖЬ
Окрепнув на молоке матерей,
труды отцовские переварив,
спешат позабыть о них поскорей
юные дикари.
Какая помощь?! Простого письма
месяцы, годы ждешь...
Выбьет слезы, сведет с ума
жестокая молодежь.
Как несерьезно устроен мир —
жизнь не ценя ни в грош,
весь свет превращает в кровавый тир
жестокая молодежь.
Все устарело — и честь, и стыд,
в моде платеж и нож.
Сердца пусты и мозги пусты...
Жестокая молодежь.
Трудно добреньким простачкам
поверить, что это не ложь,
но служит сытым и злым старикам
жестокая молодежь.
Сдав под процент золотой мешок,
платя дуракам медяки,
командуют этим стадом, дружок,
безумные старики.
«ОДНАЖДЫ ОСВЕТИТСЯ ИЗНУТРИ...»
* * *
Однажды осветится изнутри
век сумеречной жизни на планете —
свободно сомневайся и твори,
и правдой не плати за право это.
Но светлые проходят времена,
и мрак творит над разумом вендетту—
невидимая трудная война,
где по тылам не спрятаться поэту.
Коснись одежды, но не трогай плоть,
переноси на плоскость многомерность,
и скорлупу не пробуй расколоть,
храни поверхности зеркальной верность.
И если жизнь стоит на тормозах,
безвременье рождает антиподов—
одни мудрят и гибнут на глазах,
расплющив лбы о каменные своды,
другие, осадив своих коней,
недвижимостью сделав недвижимость,
живут всегда хозяевами в ней,
уверовав в свою непогрешимость.
Но третьи есть! — у них высок удел,
и над возней и мелким мельтешеньем
они встают, презрев любой предел,
не требуя наград и утешений.
И если есть в поэзии цена,
она имеет вес такой свободы,
которая сравнится лишь одна
с неторопливой мудростью Природы.
Постигаю я терпение, мой друг,
чистоте пытаюсь слово научить,
все, что кажется нам темным поутру,
высветляют предзакатные лучи.
Если мысли не уместятся в тетрадь,
этих птиц в неволе памяти держи...
Это страшно — опыт сердца рифмовать —
видишь, я еще не умер, но не жив.
Ну, а если нет ни счастья, ни судьбы,
ну, а если непонятно все кругом,
ты начни опять с мечты и ворожбы,
не грози пустому небу кулаком
и уверуй — вера каждому дана,
будет радость, если множить грусть на грусть..
Пусть же люди, снисходящие до нас,
полагают, что нас знают наизусть.
Есть на каждую беду страшней беда —
к утешениям себя ты не неволь,
мы и счастливы бываем,
если боль покидает нас на время иногда.
Все не наше — ни начала, ни концы,
наша жизнь, она и есть та соль земли,
а счастливыми бывают мудрецы,
что свой путь через несчастия прошли.
Контуры чисты, блики не густы,
крыши и мосты, арки...
Сонны берега, призрачна река,
замерли пока парки.
Тихо проплыло тяжкое крыло,
светлое чело или
в выси ветровой мальчик над Невой,
ангел вестовой на шпиле.
Мимо Спаса, мимо Думы я бреду путем знакомым,
мимо всадников угрюмых к бастиону Трубецкому.
Вдохновенья старых зодчих, Петербурга привиденья
дразнят память белой ночью и влекут в свои владенья.
Грани берегов, ритмы облаков
в легкости штрихов застыли,
и воды слюда раздвоит всегда
лодки и суда на штиле.
Все без перемен — кадмий старых стен,
и колодцев плен лиловый,
эхо и лучи множатся в ночи,
как орган звучит слово.
Розоватый дождь в апреле, разноцветные соборы,
зимы в синей акварели, в охре осени узоры.
Кто-то кистью, кто-то мыслью измерял фарватер Леты,
кто-то честью, кто-то жизнью расплатился за сюжеты.
«А ВЕТРЫ ЗАКРУЖИЛИ, ЗАВЕРТЕЛИ...»
* * *
А ветры закружили, завертели
листву и закачали сосняком,
но ласточки еще не улетели,
и даже люди ходят босиком.
Шальная развеселая картина —
мне осень платит листьями за грусть,
но все они застряли в паутине,
и я до них никак не дотянусь.
А может быть, в стране далекой где-то,
куда не залетали корабли,
в ходу такие желтые монеты —
раскаянья и совести рубли.
Осталось две получки до метели
и ни одной любви до рождества,
но ласточки еще не улетели,
и на березах желтая листва.
Мы встретились в таком просторе,
в таком безмолвии небес,
что было чудом из чудес
пересеченье траекторий.
Быть может, мы в совместный путь
могли с тобой пуститься вскоре —
в чем состояла цель и суть
всей нашей жизни, но на горе
мы с удивлением открыли,
что птица птице не под стать,
стремительные наши крылья
в полете будут нам мешать.
Так мощен наших крыл разлет,
что сблизиться нам не дает.
Три сына мои, три сердца, три боли...
В них все — не отнять, не прибавить.
Я царь их и раб. Нет прекрасней неволи...
Петр, Александр и Павел.
И каждый из них — мой давнишний портрет.
Но вспомните старые фото —
меняются ракурс, одежда и свет,
и в нас изменяется что-то.
Они нарушают мой тихий настрой,
не любят порядка и правил,
им кажется жизнь бесконечной игрой...
Петр. Александр и Павел.
Пытаюсь зажечь в них хотя бы свечу,
не худшая все-таки участь...
Мне кажется — я их чему-то учу,
а это они меня учат.
В них память веков и любви моей суть,
и свет уж другого столетья.
И каждый найдет свой особенный путь...
Ох, весело буду стареть я!
Три сына мои — три чистейших души...
Я жизнь от забот не избавил,
так просто проблему бессмертья решив —
Петр, Александр и Павел.
Два мальчика на длинном берегу,
два юных существа святых и голых..
Восторг и дрожь на них наводят волны
и ветер их сбивает на бегу.
Огромен мир, и небо необъятно,
и солнце друг, и море страшный друг.
Оно влечет, как тайна, и испуг
несут ваты и пенистые пятна.
День бесконечен, время не течет...
Что значит завтра? Что такое вечер?—
не знает пятилетний человечек
и благу жить не воздает почет.
Он — воздух, и вода, и сам он благо...
Глаза — как морс, кожа — как песок.
Пугливый и беспечный полубог,
не соизмеривший пути и шага.
Два мальчика и больше ни души.
А я — не в счет, я нынче не природа.
Я знаю химию земли и небосвода
и их судьбой (увы!) могу вершить.
Слияние лростора, ветра, вод
с их легким существом растает скоро.
Они уедут в северный свой город
и не заметят этот переход,
два мальчика на длинном берегу...
Мой маленький, толстенький, хитрый сынок,
несчастье мое и услада,
по сути — шпана, а на вид ангелок,
двойной крокодил шоколада,
с моторчиком в сердце, в ногах и в руках,
и бога, и черта творенье —
гостей оставляешь всегда в дураках,
съедая и торт и варенье,
великий политик, великий хитрец,
конфет и плодов скороварка,
знаток умиленных и добрых сердец,
святой вымогатель подарков,
воинственный рыцарь и рыцарь скупой
со складом под старой подушкой,
чинящий у братьев грабеж и разбой,
лихой доноситель на ушко,
крикун, матершинник, пройдоха и вор,
обжора и эксплуататор,
влезающий нагло в любой разговор,
приказчик, министр, император.
О боже! Ну как же тебя я терплю?!
И все удивляются тоже.
И что удивительней — даже люблю,
но ты мне бываешь дороже,
когда ты жалеешь уставшую мать
и просишь проверить на деле,
что можешь нас слушаться и понимать.
Четыре минуты в неделю