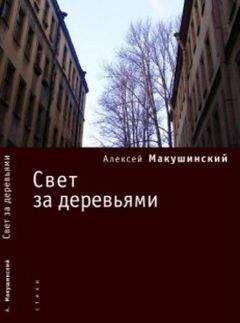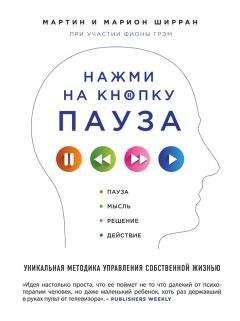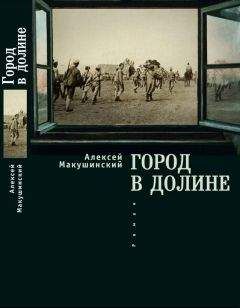Св. Лука рисует Мадонну
(Рогир ван дер Вейден)
Не потому что я знаю как. Я не знаю.
Не потому что я верю, что я смогу. Я не верю.
Но потому что ничего еще нет, ни Ее, ни младенца,
ни даже вот этой комнаты с балдахином, с колоннами
и выходом на балкон, ни балкона, ни тех, кто
стоит там, ни реки, ни холмов, ни башен, ни меня
самого. Все это хочет быть, я хочу быть. Она
смотрит в сторону, с лунной улыбкой.
Не потому что я знаю. Не знаю. Не потому что
верю. Не верю. Но потому что все начинается
сызнова, все появляется, эти холмы, и колонны. Я сам
появляюсь. Все это движется, звезды
ходят где-то над нами, подземные
воды текут в темноте. Все это хочет быть.
И потому мы начинаем сызнова, каждый
раз. Она смотрит в сторону, улыбаясь.
Все движется, только Она неподвижна.
Не потому что я. Все равно кто. Я вижу
это ветвленье реки, эти складки одежд, их паденье
и тяжесть, квадраты пола с ромбами в них,
его тихую руку с карандашом над бумагой,
уже усталость у него под глазами.
Эти строки уводят меня все дальше. Она молчит
всегда и по-прежнему. Поезда идут, самолеты
и ангелы пролетают по небу. Вот потому-то.
7 сентября 2003
«Этот берег смотрит на север…»
Этот берег смотрит на север. Северный
полюс — вытяни руку — там.
Где-то там, за волнами, глыбами
облаков. Между нами ничего уже нет.
Все, что есть, у меня за спиною, и urbs,
и orbis, все страны, все страсти,
автострады, аэродромы,
все надежды, все прошлое.
А я ведь тоже с севера. Кто-то
из моих предков плавал, якобы, с Берингом,
сквозь свист снастей, сияние льдов.
Как они верили, что когда-нибудь
тот край тоже будет civilisé.
Как жаль, что они ошибались.
Вода отступает. Песок
отсвечивает несбывшимся небом.
Я видел Будду, ехавшего в метро,
золотого Будду, улыбавшегося всем прочим,
ехавшим. Он улыбнулся и мне. Он был
похож, не похож на кого-то, кого я
знал лет двадцать назад, или двадцать
пять лет назад, или нет, на кого-то
другого. Все проходит, неправда,
что не все, все проходит, и все, что
есть, начинает не быть, и почти уже не
есть, и ты сам, и, конечно, ты сам не
очень есть, ты теряешь себя, все, что было
с тобой и тобой, исчезает, уже, вот,
исчезло, эти дни, эти ночи, то утро,
когда ты шел вдоль моря, был счастлив,
те следы на песке и те сосны. Я видел
Будду, ехавшего в метро. Он смотрел
на меня и на всех остальных, улыбаясь,
жалея. Он и был этой жалостью. Был
по-прежнему похож на кого-то, кого я
когда-то знал, или нет, кто исчез или умер,
и мы все были в этом вагоне, и никого
из нас не было в нем, мы сидели
лицом друг к другу, пустота к пустоте,
уезжая все дальше, под землей, в никуда,
в навсегда. Все проходит, струится
и утекает сквозь пальцы, и ночи,
и дни, и конечно, надежды, и даже
отчаянье. И то, что мы помним, исчезнет
вместе с нами, те, кто умер, умрет
вместе с нами, еще раз. Я все-таки видел
Будду, ехавшего в метро. Он был и
не был, как я. Но был все-таки блеском,
и золотом, и золотой статуэткой в руках
у джинсовой девушки, и внезапным
вздохом, и вообще никем, пассажиром,
и жалостью, и облаками над морем,
и тем индийским принцем, однажды утром
вышедшим из дворца, и тем, кого я
уже никогда не увижу, и всем, и даже
ничем. Я видел Будду, ехавшего в метро.
«Уходя, он смотрит на уже чужие предметы…»
Уходя, он смотрит на уже чужие предметы,
дверь в стеклянных квадратах,
портьеру на медных кольцах,
узкое зеркало. Он герой своего романа
(фильма?), с сумкой через плечо едущий на вокзал.
Будущее звучит в нем, затмевая другие звуки,
и случайные впечатленья образуют узор,
осмысленный и чудесный.
Все сходится, вот сейчас все сойдется,
и дымчатая дорога в окне, и чай в подстаканнике,
и чей-то давний взгляд, и вот этот дядька,
сидящий напротив.
Еще слова старость нет в его лексиконе. А между
тем уже тени ложатся за ним иначе. Уже непридуманное
будущее начинается в нем — как город,
исподтишка начинающийся наутро.
22 декабря 2003
Портал эйхштеттского собора
Sehr viele Weite ist gemeint damit.
R. M. Rilke
Посмотрим на эти лица, встающие друг над другом —
мы же и видим сперва лишь лица, затем
видим бороды, затем уже все остальное,
жезлы, тиары, раскрытые книги — посмотрим
на эти удивленные лица, принимающие свое удивление,
как должное, уверенные, что все это правильно,
и то, где они оказались, и то, что они удивляются.
(Мы удивляемся тоже, глядя на них, мы хотели бы
так уметь удивляться.) Они восстают и восходят,
сходясь в вышине, над высокой, но, по сравненью
с той вышиной, где они сходятся, низкою дверью,
ведущей в собор. Они сразу все уже здесь. И у них
много времени. Время разрушает их, разумеется.
Машины на площади обдают их, хрипя, выхлопными
газами. Они уже забраны сеткой, еле видимой, все-таки
сеткой. Но времени у них по-прежнему много,
так же много, как было у меня пятилетнего, так же
много, как у вот этой, над урной с только что выброшенной
оберткою от мороженого кружащейся, бесконечно, осы.
Они всегда удивляются, улыбаются, всегда, удивляясь,
всегда уверенные, что все это правильно, эта площадь,
и эти машины, и этот очерк холмов за собором,
и тот, кто стоит и смотрит на них, задрав голову,
тоже. И ничего не надо бояться.
(Я прохожу мимо них почти каждый день,
по дороге в университет и обратно.
Я все-таки иногда забываю посмотреть на них, проходя.)
15 августа 2003
1
«И конечно я помню тот вечер…»
И конечно я помню тот вечер, когда я понял,
что она умрет. У нее был рак. Я услышал,
из-за стены, как, вызывая ей скорую
и думая, наверное, что я уже сплю,
моя мать сказала, очень отчетливо: рак. Я не спал.
И потом я видел ее в последний
раз, еще живую, уже очень страшную,
приподнявшуюся в постели. Ей было
семьдесят пять, мне двенадцать.
Она спросила меня светским тоном
о школьных моих успехах. Впервые в жизни
ей не было до меня вообще никакого дела.
Но я не помню, удивительным образом,
того, о чем мне рассказывали впоследствии:
как я попросил оставить меня одного
в той комнате, где она лежала в гробу,
как сидел, один, в этой комнате, полчаса, если не дольше.
Я помню только мартовский, мокрый
день, талый снег, первые лужи.
Отец увез меня за город. Сквозь черные ветви деревьев,
чертившие на ветру свой узор,
просвечивала весенняя, бледная, неуверенная в себе синева.
На даче, где я не был с зимних каникул,
все вещи смотрели куда-то в другую сторону.
3
«У нее был, судя по всему…»
У нее был, судя по всему, довольно ужасный характер.
Это видно даже на фотографиях, тех немногих,
что у меня сохранились, очень блеклых,
очень любительских.
Есть совсем ранние, двадцатых годов, где она молодая,
очень красивая, с прелестным тонким лицом,
капризною складкой губ, смеющимися глазами.
В тридцатые годы рот делается трагическим,
глаза несчастными, красота остается.
Поздних карточек нет, она не давала снимать себя
не только в старости, но задолго до старости.
Я очень многое знаю, чего-то самого важного
не знаю, конечно, об ее жизни.