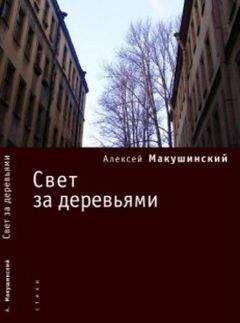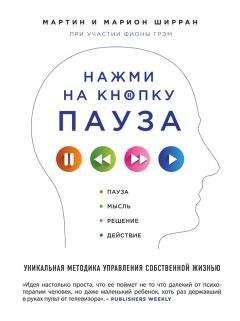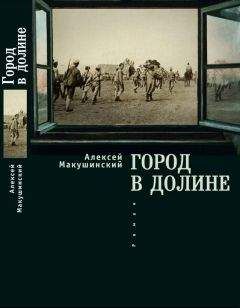Дождь, автострада, Чайковский
Как в Pathétique, которую мы слушали вместе,
только ад, ты сказала мне, и более ничего,
ни чистилища, ни проблеска, ни прощенья,
так в этот день только дождь, и рваное небо
над взорванными деревьями, и на автостраде
вообще никакого, но водные вихри, безумные
брызги, но красные фары, вдруг страшно
близко, и белые в зеркале, ниоткуда, в сплошном,
летящем и грохочущем облаке, и конечно,
печаль раздвигает границы, разрывает — отчаянье,
и все плывет, наплывая, все путается, порывы
ливня, никогда, нигде, на бульваре, и влага
над орешником, и трава в том лесу, из которого
я так и не вышел, до которого я никогда не
дойду, не доеду, и не пробую больше, и души,
обгоняя друг друга, мигают, и дворники
скрежещут от ярости. Но, Лариса, прощенье
есть, ты знаешь, всегда, и место, где все, что
было, становится снова таким, каким было,
и те, кто уже не вернется, кого мы не встретим
ни на улице, ни на автострадной парковке,
прощены навсегда, как и мы, уже есть,
Лариса, уже вдруг проступает, как вон
те, на холмах и сквозь дождь, электрические
ветряные вышки, их спокойные крылья.
28 августа 2005
The bed, the books, the chair, the moiring nuns…
Wallace Stevens
Но каждый день был каким-то и каждая
ночь какой-то, бессонной, безлунной,
и сиделки совсем не сидят, но подходят, уходят,
и склоненные лица выступают из сумрака, склянки
блестят на столике, собирая остатки света,
переходящего в тот же сумрак, но каждый
день был, конечно, каким-то, счастливым, ненужным
или зимним, и никто никогда их не вспомнит,
не сочтет их, и стараться не стоит, но все-таки
они были, все они, с их туманом, их мокрыми ветками,
их листьями в лужах, их теплом в рукавице,
их теченьем, их стеканием к вечеру, ожиданьем
чего-нибудь, телефонного звонка, телефоном
у зеркала, и зеркалом в ванной, ни в том, ни
в другом, ни в каком ничего уже больше не видно,
и неважно что больше не видно, но видно
далеко и все дальше, в глубь улиц, где кто-то
еще идет и уходит, всегда уходит, все дальше
от этой комнаты, койки, этих склянок на столике,
этих звуков за стеной в коридоре, шагов, уходящих
по коридору все дальше, по улицам с их облаками
и крышами, с их мокрыми крышами, их круженьем
птиц над мокрыми крышами, с голубями и галками
в парке, расхожденьем дорожек, тропинок, и все это
было, и звуки гаснут, и боль остается, и были,
конечно, станции, станции, их названья, никто их
уже не вспомнит, безымянные станции, до
которых уже не добраться, а как хотелось бы, не
дойти по снегу, не доехать на поезде, поезда,
конечно, все-таки, были, товарные, темные, надписи
мелом на стенах, уже не прочесть их, сиделки
никогда не сидят, все уходят, все дальше,
и военные поезда, эшелоны, и красные, острые
стрелы, как больно, и слова уезжают на стенах,
слов не слышно, уже не расслышать, но каждое
было, было сказано кем-то и значило что-то,
и каждое утро было добрым, недобрым,
дождливым, и собака была с перевязанной
лапой, и сиамская кошка, когти, царапины, царский
подарок, и всегдашнее ожиданье чего-нибудь,
телефонного звонка, телефон был в прихожей
у зеркала, и зеркало было в ванной, страшнее
когда не ждешь ничего, когда нечего, все
так тихо, так неслышно подходят, как кошки,
эти сестры, сестры, эти братья и сестры, сестрицы,
не сердитесь, поезда все же были, военные,
были мирные эшелоны, товарные, никуда, ниоткуда,
все молчит, все смолкает, все безмолвно, как мел,
как надпись мелом, как мел на дне чайника,
чай был горький, был сладкий, был сахар,
было счастье, оно все-таки было, так много
было счастья, как сахара в чае, да что ты,
столько сахара, разве можно так много, не так,
все всегда было, в общем, не так, были склянки,
были склянки, стеклянки, стаканки, и слов не
расслышать, все смолкает как мел, все молчит,
как мыло, замело, заметало, неважно, но видно
далеко по-прежнему, далеко и все дальше,
и город, в который всю жизнь так хотелось
поехать, поднимает свои башни над склянками,
свое темно-синее небо над склянками, свои башни
на темно-синем небе, вот они, все-таки,
и ветки на небе, и конечно же свет за деревьями,
этот свет за деревьями, вечером, в сумерках,
по дороге куда-нибудь, он был, были станции,
были названья станций, были ржавые буквы
и треснувший асфальт на платформе, был ветер,
был шарф, я люблю тебя, я тоже, был царский,
пускай царапины, но царский подарок, как жалко,
что дарить уже некому, прощать уже некого, все
ушли, все уходят, все дальше, все яснее от этой
койки, комнаты, и звонка не дождешься, дождаться
звонка бы, телефонного, неважно какого, все тихо,
все тише, все становится крошечным на краю
зренья, в глубине этих улиц, но каждый, конечно,
день был все же каким-то, бесконечным был каждый,
и все это длится, длится, никогда не кончается,
и башни над склянками, и военные эшелоны, любить
так просто, и листья в лужах, и станции, и слова,
и свет, и свет, и конечно же свет за деревьями.
23 ноября 2005