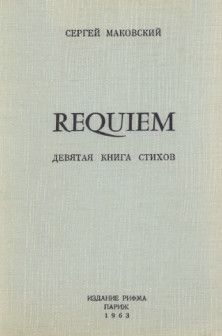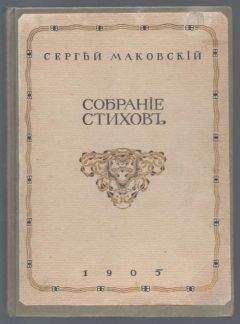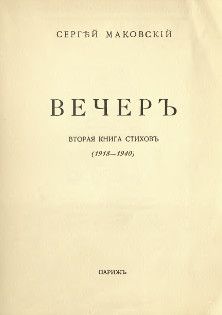REQUIEM
Шаги мои все ближе к вам, друзья,
и дух о вас печалится все чаще, —
все призрачней сквозят лесные чащи,
в немую даль змеится колея,
и горестней поет кастальская струя,
родник из глуби говорящий.
Зовете ль вы, иль я зову — пора,
и мне пора уйти в страну покоя,
где грешника, святого и героя
уравнивает строгая Сестра, —
туда, в страну, где нет ни «завтра», ни «вчера»,
а длится время неземное.
Да, вас — о, братья духу моему,
чьи образы в себе всю жизнь лелею,
друзья, которых не встречал милее, —
родных мечте моей, родных уму
и тех, кого любил, не знаю почему,
и оттого еще сильнее.
Ни людям, ни себе давно не лгу,
не обольщаю сердца ожиданьем
утешной вечности, ни упованьем
на встречу с вами вновь… Но не могу
не вспоминать. Все, все на этом берегу
мне кажется воспоминаньем.
О, спутники мои! Со мной деля
восторги грез и мысли ненасытной
и творческой гордыни беззащитной,
вы были мне как милая семья,
пока не рухнула Российская земля
в бесправья хаос первобытный.
В те годы мир, весь мир казался наш,
любуясь им росли мы все когда-то.
Любили мы и Русь, и Запад свято,
дворцы царей, Неву и Эрмитаж,
Петрова города блистательный мираж
уже в крови его заката.
В те годы Анненский-мудрец был жив,
учитель-друг, угасший слишком рано;
всеискушенный Вячеслав Иванов, и Гумилев,
и Блок (в те дни — не скиф:
он бурю звал, разбит как утлый челн о риф
разъявшегося океана)…
Забытым с той поры утерян счет,
но вас забыть, взнесенных на высоты
Парнасские, — нельзя! Во дни забот,
борений, нужд, искали вы вперед
путей нехоженных, в слова вбирая мед,
бессмертья мед, как пчелы в соты.
Но кто из вас, кто страшно не погиб,
кто спасся, отстрадав урок жестокий
войны, усобиц, безрассудной склоки, —
от пуль, застенка и тюремных дыб?
Лишь тот, воистину, кто внял примеру рыб,
ушедших в темень вод глубоких.
О, сколькие меж вас, певцов-друзей,
мне доверяли сны, обиды, муки!
И женщины… Но нет! Одной лишь в руки
правило отдал я судьбы моей, —
одной поверив, знал — что коль изменит, с ней
и смерти не прощу разлуки.
Я Музой называл ее, с собой
влюбленно уводил в лесные чащи,
где бьет родник из глуби говорящий.
И не она ли, день и ночь со мной,
и ныне призраков ко мне сзывает рой,
так укоризненно манящий…
Но жизнь идет… Ее не победит
ни рок живых, ни вопли всех убитых,
ни перекор надежд и слов изжитых.
Пусть — ночь еще! Весенний лес шумит
над тишиной плющем обросших плит
и лаврами гробниц увитых.
Монфор-Ламори, 1959 г.
Прощаясь с тобой, поминать я буду
Все, все, что дала ты мне,
Мой разум доверив бессмертья чуду,
Забуду ль о земном дне!
Забуду ль и боль, и восторг сознанья,
Что в смерти я жить начну,
Твоей красоты печаль и молчанье,
И счастье, любовь, весну…
Любимых, так много меня любивших
И брошенных мною давно,
Простивших обиду и не простивших,
Отомстивших, — не все ль равно!
Была ли и будешь? Иль только снишься
И так же другим солжешь?
Но, может быть, в вечности ты продлишься,
И правдой предстанет ложь.
Париж, 10 апреля 1962 г.
Призраки надгробные,
Души — тени Божии,
ангелоподобные,
но с земными схожие,
вижу вас: по лестнице
снежнобелой храмины,
благодати вестницы,
в дар любови пламенной
на алтарь возносите,
на алтарь сияющий,
жены мироносицы,
дух мой созидающий…
Париж, 15 апреля 1962 г.
От земли уйдя далече,
О земле далекой грежу,
Но земли далекой речи
Слышу тише все и реже.
Привиденье все забвенней
Яви некогда мне милой.
Ветром треплет лист осенний
Где-то над моей могилой.
Из неведомой отчизны
Ярче благовестье света.
Песнями прошедшей жизни
Убаюкивает Лета…
Париж, 15 апреля 1962 г.
Крылья («Из века в век томился он о чуде…»)
Посвящается Владимиру Ивановичу Поль
Из века в век томился он о чуде,
о крыльях, о полете ввысь, —
Туда, туда, где не бывали люди,
мечтал, крылатый, вознестись.
Века текли… Его упорный разум,
пытая персть земную, креп,
И сонмы солнц, невидимые глазом,
прозрел умом он… И ослеп.
О небе мудрствуя, не крылья духа
он сотворил, а саранчи
Подобие, грохочущие глухо
молниеносные смерчи.
Безумие! Иль светил купол звездный,
ему пророча рай сквозь тьму,
Чтоб он обрел во тьме, кидаясь в бездны,
миры, где места нет ему?
О, бред! Уже везде, как волк голодный,
ощерен на народ народ…
Миг — и огонь наземный и подводный
разрушит все и все пожрет.
Превзойдена бездушной силы мера,
зломудрию предела нет, —
Смерчи погибельные Люцифера
всевышний затмевают свет.
Париж, 10 апреля 1962 г.
Апрельский ландыш («Ландыш, колоколец нежный, позвонил к весне…»)
Ландыш, колоколец нежный,
позвонил к весне,
На краю ложбины снежной
кланяется мне.
Из лесной замшенной прели,
возвещая май,
Прокололся он в апреле
под грачиный грай.
На земле обрел, на небе ль
белизну свою —
Тянется от снега стебель
к солнечному дню…
Слышу голосок твой чистый
песней тишины,
Колоколец серебристый,
первенец весны!
Париж, 28 апреля 1962 г.
Голубая сосна из окна
гроздью перистой тянется в комнату,
к лесу, к летнему вереску, к омуту
неба раннего манит она.
Каждый дюйм голубого плаща —
восходящего дня благовестие,
зов доносит ко мне из полесия
ветерок, еле слышно журча.
О, таинственность зовов лесных,
всесогласие сил созидающих,
над светающим лесом сгорающих
затуманенных зорь золотых!
В дали смутные сумрак зовет
на поляны тропами знакомыми.
Там дубы веют древними дремами
и о вечности утро поет.
И на зов я отвечу, пойду
в этот лес, где так радостно-зелено, —
иль всему, что живет, не повелено
жить и радовать в Отчем саду?
Монфор-Ламори, 1961 г.
«Просыпаюсь. В окна — утро…»
Просыпаюсь. В окна — утро.
Рань еще, совсем немая,
горлица, и та не плачет.
В переливы перламутра
мгла лесная солнце прячет,
на листве — как дымь сквозная.
Что это? Уже — сегодня?
Или в зареве пожара
вижу день, еще вчерашний?
Длится он, а я спросонья…
И пробьют часы на башне
еле — слышных пять ударов.
«Старинный бор вокруг, и в нем…»
Старинный бор вокруг, и в нем
укромных деревень становья,
где пахнет кабачок вином
и молоком тепло коровье.
А город сплошь Средневековье.
Когда жара спадет, лениво
по улочкам крутым брожу,
и все, на что ни погляжу,
в убогой забыли красиво:
окно, решетка, свод — все диво.
На башне неподалеку
пробьют опять часы… И стонет,
ушедший в вечность бой, нагонит
на нерожденную строку
о давнем смутную тоску.
Так, на ходу пишу стихи,
в уме… Что делать, коль приходят,
непрошенные, и уводят,
царапнув сердце за грехи,
в миры неузнанных стихий…
Зной («Воистину лето земное…»)