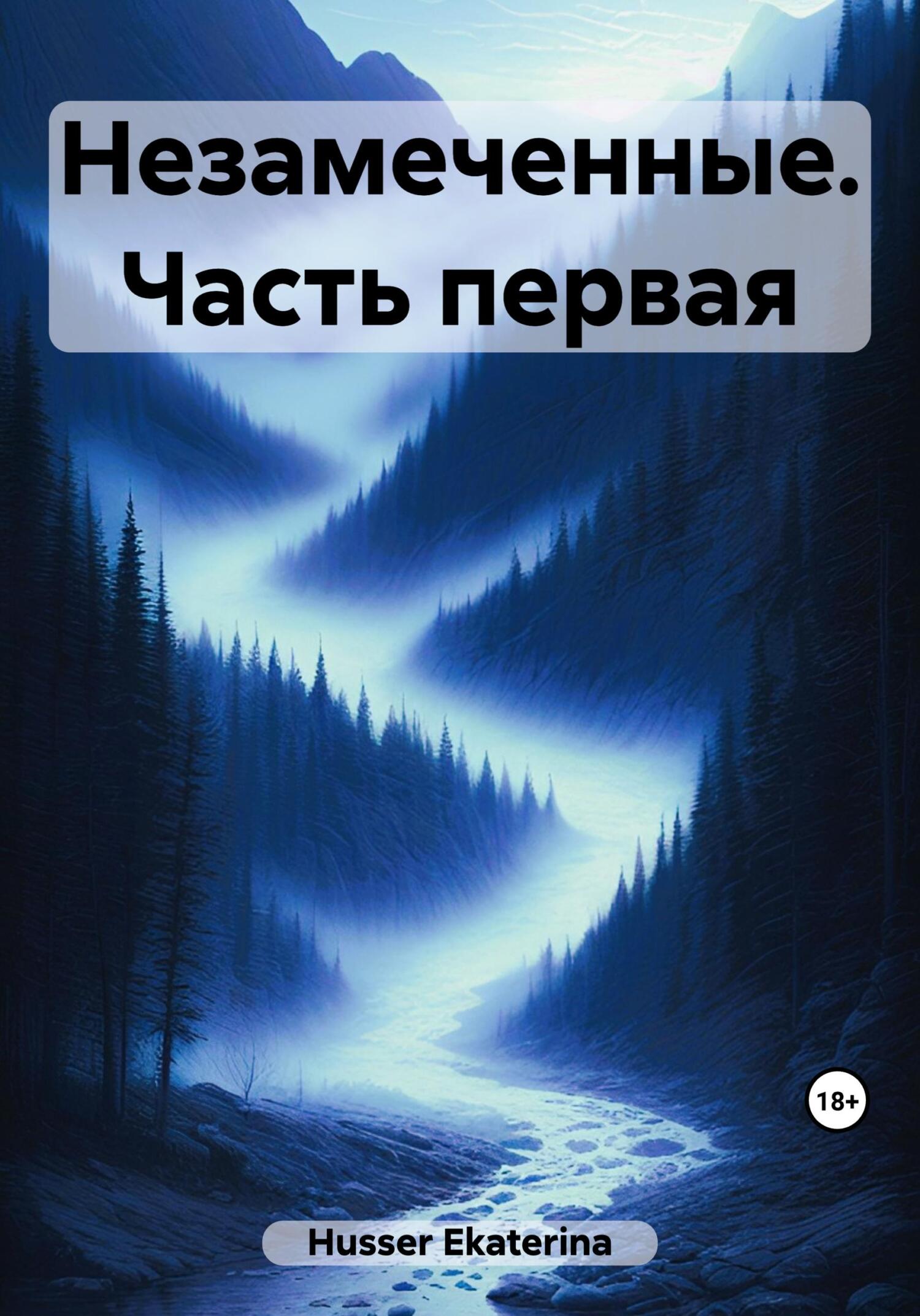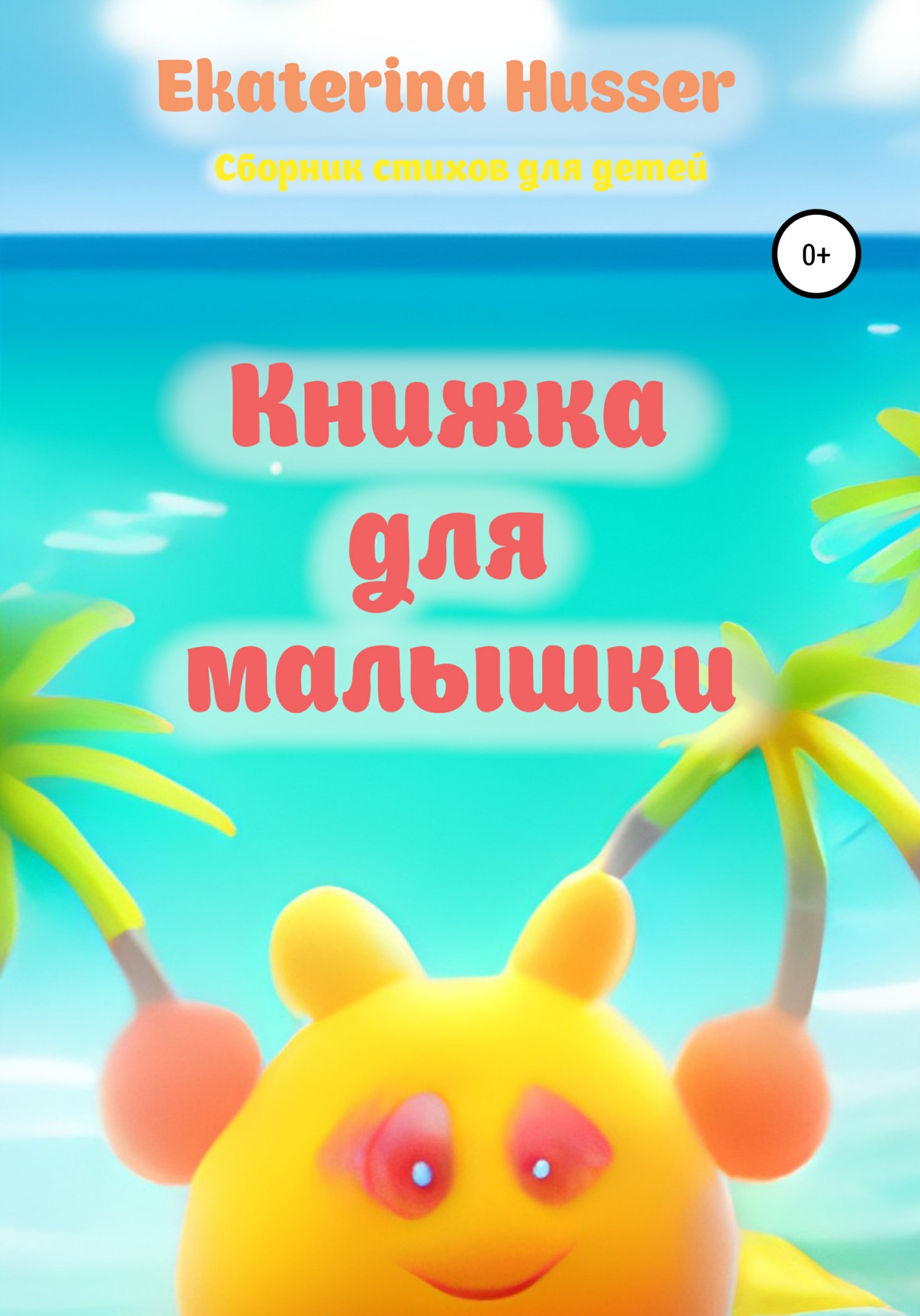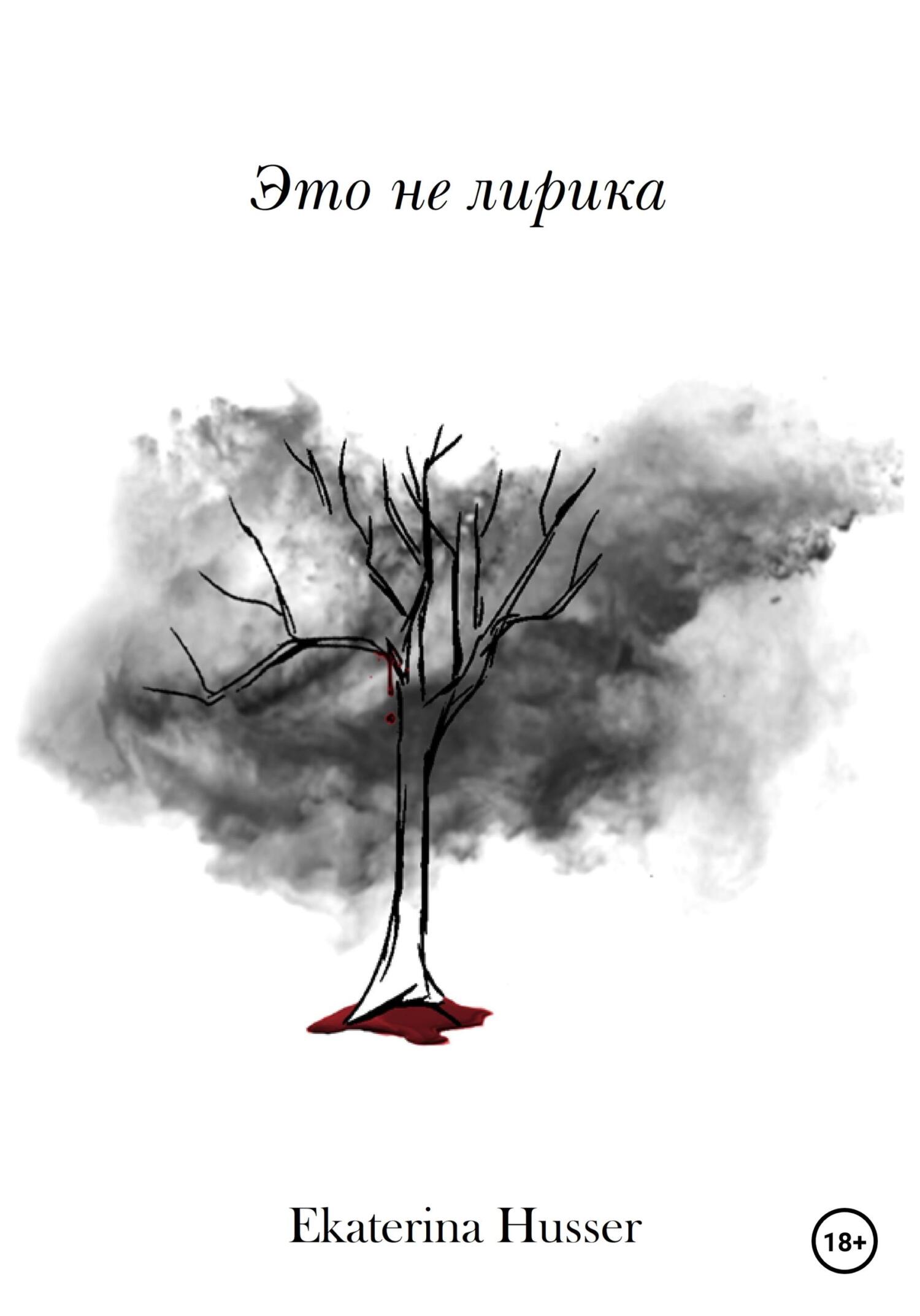прочёл.
Дай мне руку свою — моя крепкая.
Никогда бы его не подвёл,
Если б даже в тайгу он забрёл,
Все преграды бы в миг обошёл
Ради дружбы! О, дружба заветная!
Я озяб бы под хладным дождём,
Пел бы песни, что мы не поём,
Для тебя позабыл милый дом.
Всё для друга, но тема запретная.
Друг мой больше ко мне не пришёл.
Он молчит. Тополь тоже отцвёл.
Фотографию нашу нашёл…
Моя дружба теперь безответная.
Вот так, старушка.
Мне не статься поэтом России.
Я для местного дна некрасива,
да и слова моего не просили,
оно бьёт по режимным так сильно…
И не вступится батюшка.
Честно,
не жди.
Позади
та эпоха. Всё смыли дожди.
Пропади
хоть сквозь землю,
но укромно цеди
сему.
Прошу. Не следи,
вытри ноги,
когда к поэту входишь.
Своди
все концы воедино.
Мне не кажется.
Знаю, что мимо
тот звериный оскал,
лишь морщина
от него.
Я-святыня.
Не бог и не люд.
И в боях
нервы лишь не сдают.
Остальные предатели.
Мерзко.
Как проклятье
повисла повестка,
как смешно,
то всего лишь отместка,
а я славным поэтом зовусь…
Поступью тяжелы
Горе-ноги мои,
Руки свои разомкни, конвоир.
Не тушуйся. Отстоим.
Строфу свою читаю в глазах,
Но мы то в разных мирах.
Жалко тебя, что в стенах
Совесть рассыпалась в прах.
Тонут в злорадстве шуты,
В нём же утонут вожди.
Истины в боли просты-
Нет уже сил для мечты.
Легче в назначенный час.
Что ты, угрюмый, припас?
Ложь прочитаешь с листа.
Разве же я не права?
Руки сомкни, конвоир,
Видишь, сломался шарнир.
Ноги мои тяжелы,
Поступью к горю веди.
Самый мёртвый город на Земле.
Он пронизан сотнями разрядов,
Он висит сейчас на фитиле,
Весь избитый тысячей прикладов.
Вслушиваясь дико в тишину…
Не мерещится мне стон дитя в закате.
Плач, который я не оттолкну,
Плач, что вырезан на циферблате.
До сих пор из-под завалов он
Рушит непреступную рутину,
Помнит окровавленный шеврон…
И мне помнить всё, пока не сгину.
Запах тлена всё мешал вдохнуть,
Тот обыденный морозный воздух,
Пепел тяжело с тех глаз стряхнуть,
Что так мило смотрят в безмятежность.
И поля, и головы гниют,
Пули разбивают все надежды,
Мёртвый город в век не погребут…
Крылья из наивности подрежьте.
Пропащий.
И адовое пламя
шептало на ухо тебе,
что кубок дребезжащий,
словно знамя
получишь ты в этой борьбе.
К хвальбе
корячится остывшая та совесть
и повесть
таки напишут,
ведь условность
важней,
чем истинный порыв.
Услышь,
пока ещё ты уязвив,
смог говорить
с тем, кто ревнив,
но вскоре
воедино всё сложив,
забыв,
что можешь быть брезглив,
каплей покажется
вдруг море
и в человечность дверь закрыв,
ты с упоеньем
насладишься ролью.
Уже сейчас я слышу сей мотив,
но истину не вытащить –
всегда труслив
нрав человеческий
и лжив.
Почти сошёл с ума.
От дна
уже не жаждет оттолкнуться,
дотянуться,
чтоб в эту каплю окунуться.
Ещё мгновение…
И с той же стороны
тебе пороки помогли споткнуться,
а мне останется лишь только ухмыльнуться,
да калачом дома свернуться,
когда заступят и твои часы,
если заступят…
И вовсе ли твои…
Свяжу тебе я, сыночка,
носочки.
Такие тёплые и мягкие,
чтоб вьюга
не пробралась к твоим ногам.
Недуга,
чтоб не случилось
у чужой реки.
Листки уже опали от тоски,
не по-людски
с рукой пустой прощаться,
откуда ж полной
на селе ей взяться,
но то неважно,
некогда тужить,
не нам сыночек,
а тебе служить,
врагов всё колотить
в окопе,
да жить в крови,
словно в сиропе
застывшем на ветру.
К утру
я успокоюсь и умоюсь,
не усну,
меня теперь прибьют
к тому окну,
которое выходит на тропу,
на ту,
где мы тебя сейчас проводим.
Мы часто ведь ответов
не находим,
вот и сейчас я их
не нахожу,
смирившись, просто жду,
но боль то не проходит,
за нос водит,
рассказывает, что я зря грущу,
что зря ропщу,
ведь родину солдатом окрещу…
Но, вдруг тобой чужбину угощу?
И не дождусь тебя
на сломанном пороге,
мне давеча приснилися
Пологи…
Письма давно нет,
видимо в дороге.
Я с богом больше месяца молчу,
не говорю и не хочу,
он лжёт мне,
остальное лишь предлоги.
Не уж то поразили так пороки?!
Не уж то бы могилы так глубоки?!
И сына ты вовек не заберёшь.
Врёшь!
Ты сына мне спасёшь!
Вернёшь.
Не уж то украдёшь?
Не верю.
Я настежь распахну все двери
и буду ждать свою потерю.
Может быть, всё-таки придёшь…
Когда свой пыл слегка умерю,
достану старые замеры,
ещё свяжу тебе носков.
Ещё теплее,
ещё мягче.
Сегодня солнце палит
жарче,
в дверях наш почтальон
всё плачет,
пришёл он не с пустой рукой…
Я глубоко несчастный человек,
Ибо все мысли мир к стене всё ставят.
Они остры, опасны, тем печалят,
Ведь очевиден смертника сей бред.
Хорда людская чаще мир ломает,
Чем смех сквозь слёзы в малохольный век,
Но в этот миг сердечность начнёт бег
И злоба с ненавистью тихо угасают.
Я, негодуя, возмущённо в думах жду,
Когда меня чёртово чувство уж оставит,
Слишком серьёзно оно ставки повышает,
Но я бороться с ним вовек не прекращу.
О, разум, ты не сможешь быть добрей,
Тем этот рок всё тяжелей и вяжет.
О, гений, ты же просто безобразен,
Со смертью того хуже — лицедей.
Так холоден
и повседневен
взгляд твой.
Мне не рад.
Бессмысленный наш променад
разбавит долгожданный снегопад,
но все снежинки вдруг утонут в луже,
в неё как будто бы и ты погружен…
Повисла, между нами, тишина,
её для нас разбила лишь волна
холодного, безжизненного моря.
Самое время
в него взглянуть и нам с тобою.
Прости, что беспокою,
но цепною
реакцией звонок мой предрекла
та мгла,
что обуяла,
позже рядом прилегла
и ты чужим отдался воронам.
Воры ведь!
Украли.
А потом делили поровну,
да знали,
чьё счастье без стыда забрали.
Мои проклятья не пугали.
Неверно толковали.
Тебя, я, верно, не спасу,
ведь не по силам и ферзю
стереть, иль уничтожить