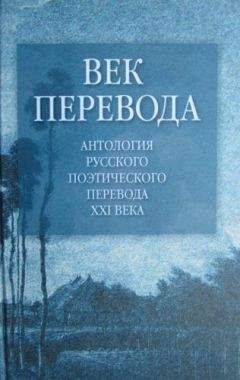ДОМ ТОР
О, если мог ты видеть это место
В грядущем, после смены горстки поколений:
Возможно, в насажденном мной лесу
Останется деревьев несколько,
Допустим, темнолистых австралийцев
Иль кипарисов, бурями побитых;
Их демоны — топор и пламя.
Найди фундамента гранит, источенный водой,
Что мои пальцы двигали,
Заставив камень полюбить соседний камень.
Возможно, что-то и останется.
Но если ты увязнешь в лени на добрый
Десяток тысяч лет,
Там есть гранитный круг на плоскости гранитной
И лавовый поток в глуби залива,
А также устье речки Кармел.
Четыре эти вещи сохранятся,
Как их ни называй. Узнаешь ты залив
По первозданному морскому аромату ветра,
Пусть океан, подобно альпинисту,
На время замер, чтоб передохнуть.
Узнаешь ты его в излучине залива,
Откуда вышли наши солнце и луна
До смены полюсов, и Орион декабрьский
Вечерний был нанизан на шампур залива,
Подобен освещенному мосту.
Приди сюда наутро — и увидишь чаек,
Танцующих с волной над голубой водой,
И месяц убывающий, что служит им партнером,
Ходячий призрак в ярком свете дня,
Что шире и белей любой из птиц на свете.
Мой призрак не ищите: он, возможно, здесь,
Но темен он и глубоко в граните,
Он не танцует на ветру
С безумством крыльев и дневной луной.
Вселенная сжимается и разжимается,
Подобная большому сердцу.
Сейчас всё разбегается, и дальняя туманность
Спешит, пытаясь обогнать свой свет,
В ничто. Но день придет — и вновь
Она сожмется, и флотилии звезд и галактик,
Туманностей и пылевых скоплений
Свой вспомнят дом и в гавань поспешат,
Друг друга сокрушая.
Слипнутся в один комок
И вновь его взорвут, тогда ничто их не удержит.
Не поддается описанью этот взрыв.
Всё-всё, что существует в мире,
Ревет в огне, обломки разлетаются в пространство
Небес, и новые вселенные бриллиантами ложатся
На черную грудь ночи, и опять,
Подобно атакующему копьеносцу,
Далекая туманность мчится в пустоту.
Неудивительно, что завораживают нас фейерверки
И взрывы бомб.
То — ностальгия по Большому Взрыву,
В котором родились мы все.
Однако всё скопление энергий,
Слепивших тот гигантский атом, выживает.
Он соберется из осколков вновь —
Опять последуют диастола и систола большого сердца.
Наш Бог не обещал нам мира,
Напротив, жизнь — и смерть, рожденье — и проклятье.
Большое сердце бьется и накачивает в нас
Артериальный кровоток.
Неимоверно мир красив!
И мы, трагические дети, обезьяны Бога,
Причастны красоте, живем, чтоб ей внимать,
Для этого нам жизнь,
Чтоб видеть красоту, хотя и зубы сжав от муки.
И то не Бог любви, не справедливость
Флоренции во время Данте,
Не антропоид Бог и не диктатор.
Он вечен, бесконечен и беспечен.
Взгляни на моря блеск в ночи: поток отлива
Уносит звезды вдаль — похоже это на паденье наций, —
Рассвет, слоняющийся босиком в долине Кармел,
Встречает море, то и это существует с их красою,
А Взрыв — великая метафора безликого насилья
И корня всех вещей.
КОНСТАНТЕЙН ХЁЙГЕНС (1596–1687)
МОЙ ПОРТРЕТ
За Справедливость, Порядок и Истину вечно радеет Хёйгенс.
Коль видеть его хочешь, так вот он и есть.
Если ж ему кроме этих вменяют иные заслуги,
Знай, это сплетни пустой лживой старухи Молвы!
ЛЕНИВЕЦ
Одр, на котором, как дверь, я со скрипом ворочаюсь, сонный[5],
Как тебе мил этот сон, как ты желаешь, чтоб я
Был бы разбужен лишь вышней трубою в последнее утро
И чтоб не раньше восстал самой последней, седьмой.
РЕМЕНЬ
Тщетно безвинное брюхо стягивать узами станем,
Если прожорливый рот в крепких не держим цепях.
О ДРУГЕ, ПОЗДРАВЛЯЮЩЕМ С РОЖДЕНИЕМ ТРЕТЬЕГО СЫНА
Друг, что меня поздравляет со счастьем тройным, не желал бы
Так, как я счастлив втройне, счастлив четырежды быть.
К ПОСТУМУ, ХУДОЖНИКУ, СТАВШЕМУ ВРАЧОМ
Прежде ошибки твои напоказ выставлялись бесстыдно,
Коль ошибешься теперь — скроет ошибку земля.
***
Геллия плачет о муже своем беспорочном и добром.
Он же, больной, завещал нищему всё, что имел.
Скоро, узнав про обман порочного злыдня, за гробом
Будет идти и рыдать пуще, чем прежде, она.
РУМЯНЕЦ ЗАКАТА
Прежде чем в черный покров облачится эфир, словно в траур,
Он, лишь наступит закат, красным залит — отчего?
Изобличенный в грехе, от стыда покраснев, он назавтра
Ясный и солнечный день клятвенно миру сулит.
ИСПАНСКАЯ ЗАДАЧА
Если нам нужно вручную перенести Мирозданье,
Сколько наполнит корзин вся Мирозданья земля?
Так говорит Математика: «Сделаешь если корзину,
Чтоб половину земли этой вместить, — хватит двух».
ЭНДРЮ БАРТОН «БАНДЖО» ПАТЕРСОН (1864–1941)
ДЖИБУНГСКИЙ КЛУБ ИГРЫ В ПОЛО
Где-то в дальнем захолустье, где скала — пастуший кров,
Клуб был создан под названьем Джибунгских Сорви-Голов.
Та страна вершин суровых строгой матерью была,
Там верхом скакать опасно, лошадь ходит без седла.
Но играли безрассудно уроженцы диких гор,
Никакой тебе науки — злость и бешеный напор:
Вез в игре их крепкий пони, мышцы скручены жгутом,
Хоть с весьма паршивой шкурой, с длинной гривой и хвостом.
И заместо тренировки он к траве гонял коров.
Просто черти были в клубе Джибунгских Сорви-Голов.
Там, где торжище людское, дымный город как парник,
Клуб возник и назван с ходу был «Крахмальный Воротник».
И большим успехом в свете пользовался этот клуб,
Всякий член одет изящно, в обращении не груб.
И бока лоснятся пони, и седлом не стерт окрас,
Ведь культурного владельца возит он в неделю раз.
Но в погоню вслед за славой те помчались по стране,
Чтобы где зимуют раки конкурент узнал вполне.
Каждый взял для чистки туфель столько слуг, что будь здоров.
Но ждала их встреча с клубом Джибунгских Сорви-Голов.
Так представь, мой друг, какая развернулась там борьба
В тот момент, как налетела Джибунгских Чертей гурьба.
Оказалась жуткой встреча, пер без удержу народ
И ломал, как спички, ноги — лишь бы глянуть, чья берет.
Бились насмерть, нервно пони между мертвых тел ступал,
Только счет держался равным, и никто не уступал.
И последний, кто свалился, смерть найдя в лихом бою,
Капитаном был Крахмальных, — так игра прошла вничью.
И тогда с земли поднялся лидер Джибунгских Чертей,
А в глазах горела ярость, хоть изрублен до костей.
Глянул, пусто в обороне, — мертвецам оставь покой, —
Он залез на пони, клюшку сжал слабеющей рукой.
Так решил добыть победу, в нем еще горел запал;
Он ударил и — промазав — умер, прежде чем упал.
_______________
И у старой речки Кампасп, где в траве скользят ветра,
Ряд стоит надгробий низких возле тропки овчара.
И гласит сурово надпись: «Путник, скорбен будь твой лик,
Спят здесь Джибунгские Черти и Крахмальный Воротник».
Коль в туманный вечер лунный окружает динго вой,
За мячом нагнутся тени над невидимой травой.
Игроки летят друг к другу, столкновений слышен звук,
Частый топот сильных пони, деревянных клюшек стук.
Хоть поскачет быстро путник под кабацкий бедный кров,
Нагоняет призрак клуба Джибунгских Сорви-Голов.