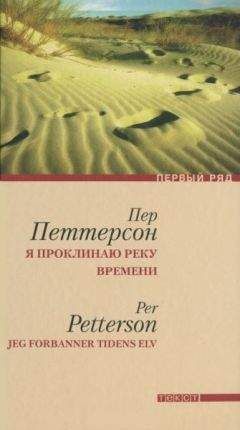Венок магистралов
Я, Оля, пил, конечно неспроста
Я до Москвы не пил – хоть рядом пили,
Меня ведь здесь в метро дубинкой били.
И называли, Оля, лимита.
А жил я не за пазухой Христа,
В чужой квартире. Из меня лепили
Мужского Галатея. Те места,
Что отличались, боги сохранили.
И здесь и в Петербурге я чужой.
Как летчик самолета над тайгой,
Как беженец столиц бомж – небожитель.
И вот вхожу к тебе оправив китель
Прости, что этот стих был прост, как чох.
Зато вилял хвостом, как кабыздох.
Я, Оля, пил, конечно не спроста
Я с горя пил и от непониманья
Но совесть? Совесть у меня чиста
Хотя пойду я в храм на покаянье
Ты спросишь – пил я вина? Нет – спирта
Я офицер, хоть небольшого званья
И посещал я злачные места,
Чтобы унять души своей исканья.
Я, Оля, иногда пишу стихи
Мне грустно так становится порою
Забыл я что такое чахокбили
Вообще – то я люблю котел ухи
Опустошить с компанией честною.
Я до Москвы не пил, хоть рядом пили.
Я до Москвы не пил, хоть рядом пили.
А здесь – да что тут, Оля, рассказать,
Тебе я или предлагаю, или
Запить, или беседу завязать,
В том смысле – развязать язык и в стиле
Мне возражать, как любишь, в полстола
Бюст Боратынский с Пушкиным слепили —
Два локтя, подбородок – как мила
Ты стала – козочка в обличье женском,
Московским взглядом, полу-деревенским
Хранишь ты весь комфорт твоих идиллий,
И смотришь на мою персону в оба
Тяжка обуза северного сноба.
Меня ведь здесь в метро дубинкой били.
Меня ведь здесь, в метро дубинкой били.
Я вспомнил, что я помню два лица —
Одно из них – с усами наглеца,
И с кожей щек оттенком в перец чили,
Другое – сборище как снежный сад
Красивых черт с брезгливыми тенями,
Чтоб не подумалось, что он Де Сад,
Но и маркизом быть над всеми нами,
Скотами рынка, преступленья чьи
Расследовать устало и печально —
Долг юноши, защитника любви,
И на дубинке оттиск обручально
-Го вжат кольца. Свистит дубинка та,
И называли, Оля, – лимита.
И называли, Оля, лимита.
Отцов прославленных известным ходом
Истории надменные потомки, м-да
И улыбнулся шанс им стать народом
Господ рабам, чья участь – нищета.
От русских не спастись своим исходом,
И власть опричнины, и дым костра
Куда теперь? Уходим дымоходом.
На посошок прости их протопоп
Дай скорбной прозы слопать этим рожам,
Пахуч твой древне русский, как укроп,
В щах свежего капустного листа
Истории России. Подытожим.
А жил я не за пазухой Христа
А жил я не за пазухой Христа.
Оля, не червь я в яблоке едемском.
В горах не пас я триста лет гурта,
Пчел не водил на хуторке под N-ckom.
На Курщине не скрещивал сорта.
На Умбе розовую семгу с плеском
Я не поймал не разу, жизнь не та.
Не та и рыба. Провисает леска.
В моей руке, точней в руке моей,
И не в моей точней. С рукой чужою
Я спутал свою руку над Москвою
Вид из окна, рассвет. Уж кони сбили
Лед с башен. Братец Феб, щади коней.
В чужой квартире из меня лепили.
В чужой квартире из меня лепили
Кекс, дабы бы ковырять изюм души,
Козюли, сладкие на вкус, попилен
Я щеголял обличием лапши.
Пляши, пельмень, раз зубы закадрили.
Пельмень – пляши, хор – пой, поэт – пиши.
У пиццы есть двойник – зад гамадрилий.
Мы горячей в любви чем беляши.
Желток яичный опекай пеструха
О чреве пирога пекись стряпуха
Так пекарь Франсуа учил, сестра
На яйцах срубим в лавке по проценту
В духовке же румянец сквозь плаценту
Мужского галатея те места.
Мужского гапатея те места.
Зовутся хер, скажу тебе, старуха.
В душе, где наступили холода
Все гулко, ясно, через чур уж сухо
Пыль белая, была и ты вода
Сколь ты несла для носа, глаз и уха
Ворона скачет, пишет никогда
И эхо, и не молкнет оплеуха
Уходит не оглядываясь Лот
От берега, как гневный кашалот
А за хвостом пустыня соляная
А перед усом буря вод, войны ли
Огонь, обломки зданий, тех я знаю
Что отличались, Боги сохранили.
Что отличались, Боги сохранили.
Черты зимы какой-то не земной
Черты лица зимы на бумвиниле,
Оттиснутые беленькой фольгой.
О, нет, не серебро, нет алюминий
И сел на это супер, как влитой
Как сел на тень сознанья снег седой,
Как бабочка сидит на книжном мыле,
Звучит шоссе, И никого вокруг.
Г. А. Иванов едет в Петербург
С французским утюгом и со штанами
Погружен в кузовок тремя томами
И думает повеса молодой
И здесь и в Петербурге я чужой.
И здесь и в Петербурге я чужой.
Себе и остальным. Я заключенный.
В себя. Навеки разлучен с любой
Душой. Перед Землей, иконой.
Я жгу свою лампаду шаг земной,
А в легких тихий воздух небосклонный
Колышется невидимой волной
И веткою свисает благосклонной
Цветам числа нет, или счесть их лень
Понятно, ветка эта не сирень
В виду имеет автор звезды неба
Или какой кошмар в саду Эреба.
А то вдруг вспомню Ленинград ночной,
Как летчик самолета над тайгой.
Как летчик самолета над тайгой.
Когда динамик хрюкнет, что твой боров,
Испортит связь, оглушен, знаш, вьюгой,
Являюсь я лишь зрителем приборов
Мне облачность закрыла видовой,
Простор. Погода выказала норов,
Куда летишь ты, самолетик мой,
Какой тебя, сиротка, примет город?
Ни Китежбург ли – прошлый Ленинград,
Сокрывшийся под Ладожской водою,
Чтоб не германо-говорящий гад
Не вполз на Невский с гусениц ордою
Шепчу, посадки, Китеж, мне дадите ль?
Как беженец столиц, бомж – небожитель.
Как беженец столиц, бомж небожитель.
Алкивиад, собака, взял венок,
Венок померив снял, другой увидел,
Второй надел, и он нам не помог.
Корону мне померить разрешите?
Да отчего ж не спробовать, сынок,
Вороны любят блеск, и вы любите
Сказал мне чей-то тихий шепоток.
И вот я, Ольга, пробую корону
Напоминаю сам себе ворону,
И клювом папиросочку куря,
А лето что ж, дойдет до января,
Покроет снег древа, как победитель,
И вот вхожу к тебе, оправив китель.
И вот вхожу к тебе оправив китель.
Сын лейтенанта Шмидта, Срань фон Дрань
Обдолбанный Молдавии Овидий
В столицу понаехавшая дрянь.
То хорошо, что сапоги хоть вытер,
А то припруся то в позднять, то в рань
Звоню, как только телефон завидел
И громко говорю: Здорово, Сань!
Здорова, Сань, как сам? Ниче? Ну ладно,
Как там? Как здесь? А че? Ниче? Прохладно.
Че ты купил, какого, блин, Сенеку?
Античка, снова Грека через реку,
И ржет своим остротам дурачок
Прости, что этот стих был прост, как чох
Прости, что этот стих был прост, как чох
Не чох я выразить им попытался,
Не человеческий обычный вздох
Которым бы твой атрибут питался.
Ни «Чудо-ягода» ни «Добрый» сок
И ни «J7» не подразумевался
Оль, это был лишь воздуха кусок,
Каким ты был, таким ты и остался.
Тень от степного сизого орла,
Или отца, что на челе у сына
Прозрачностью раздумий прилегла
Под озорной мотив «Москвы-Пекина».
Городовой японский или бог,
Зато вилял хвостом как кабыздох.
Зато вилял хвостом, как кабыздох.
Я, со своим стихом дружа, пера я
Из птиц надергал на подушку, чтоб
Тебе Морфей тебе шептал вокруг шныряя
То стих один, то стих другой – прыг-скок
С тобою проводивши вечера, я
Узнал себя получше и, как дог
Несу сонеты гордо выступая
И мраморною шкурою лоснясь,
И каплею слюны искрясь – искрясь.
Следы когтистых лап – мои лета
Куда ты в лужу наступил, зазнайка
Убийце-догу говорит хозяйка.
Я, Оля, пил, конечно, не спроста.
Возможно чтение «Ну, за детей!»
«Сайгон» – кафе при ресторане «Москва» на углу Невского и Владимирского проспектов служило местом собраний трех поколений ленинградской богемы и является своеобразным памятником культуры.
В том числе там собирались и любители Горация.
В период крушения империи на месте кафе был открыт магазин элитной сантехники.
В советское время игра на блок-флейтах и пр. в «Сайгоне» преследовалась, но не смолкала.
Специальный «маленький двойной» кофе в «Сайгоне» заваривали известные по именам всему Ленинграду работницы, их искусство сравнивалось, они следили, чтобы очередь к одной из них была длиннее, чем к другой. Строка же представляет собой цитату из популярного в то время автора-исполнителя Б. Г. В оригинале звучит: «и горький дым, и горький чай», так как у известного поэта всегда не хватало денег на кофе.