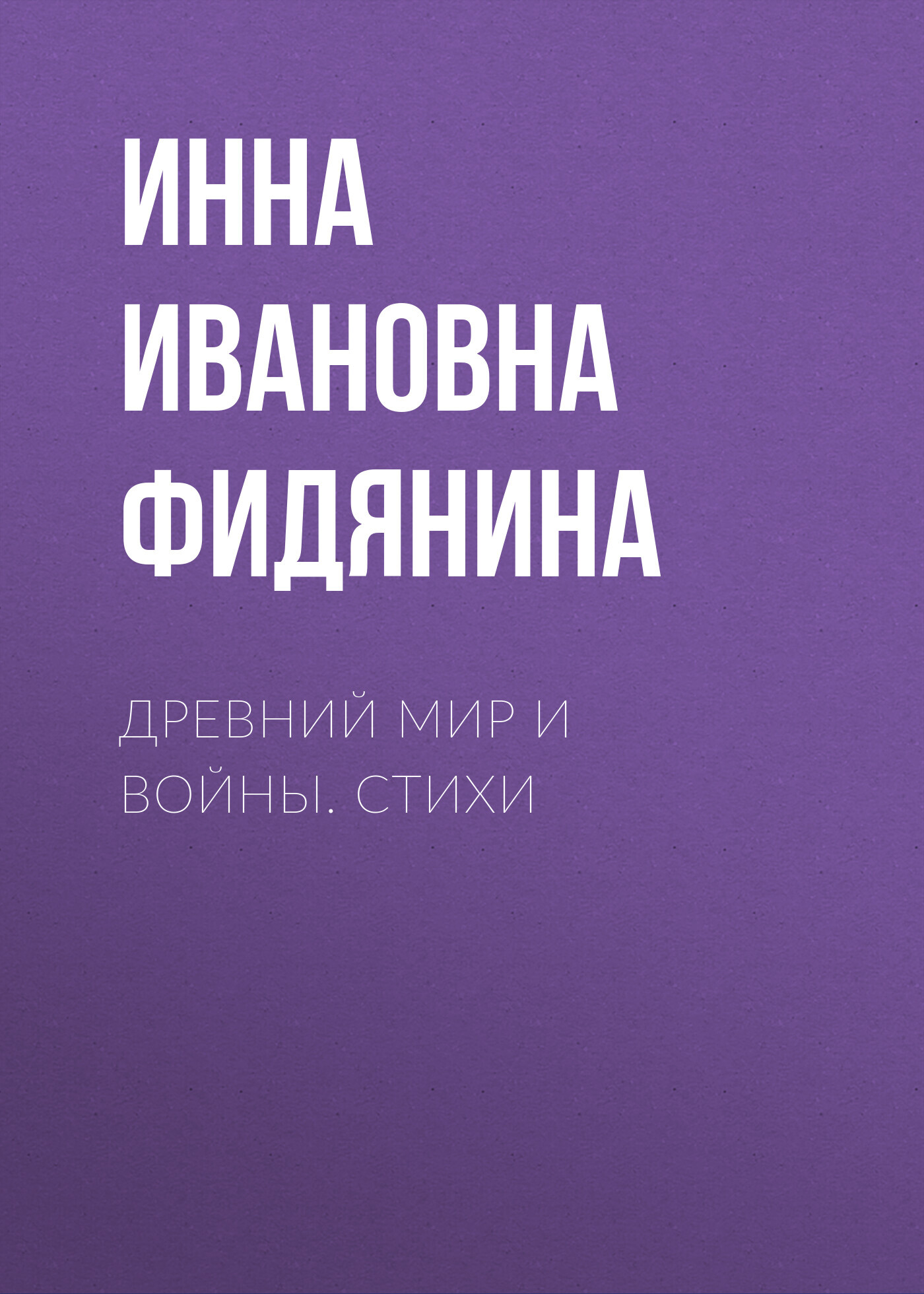class="p1">Сахалин зимой обогрей, укрой!
Сахалин пургой обогрел, укрыл.
Пароход за мной не пришёл, не приплыл.
Нет не холодно, нет не голодно,
просто пусто кругом, очень боязно.
Как-то жизнь сиротливо прошла.
Сахалин-господин пел не для меня
свои песни в ночи заунывные.
Я не дочь тебе, картину дивную
напишу пером. А замужество
как пришло, так и ушло. Придал мне мужества
Сахалин смешной в небывалый век.
Я — зима-тоска. Ты — мил человек.
Песни горькие мои, ты забудь, прости.
Одевай-ка шубку и иди, иди
по краю русскому, краю снежному.
Сахалин-берега — края безбрежные!
Бог островной
Сахалин-господин колышется:
— Хорошо ли, тепло тебе дышится?»
— Хорошо и тепло, и вольно,
даже в лютый мороз раздольно!
До чего ж я люблю бураны:
заметут и следов не оставят.
Пропаду без следа и сгину,
ищите потом свою Инну, —
а Инна уже на небе
разговоры ведёт со светлым
богом Островным очень долго.
— Ну как тебе, доча, Волга,
красивы ли горы Урала?
Киваю: «Я не встречала
ничего красивей Сахалина.
Можно я снова двину
на свой островок гремучий?»
Хмурит бог свои тучи
— Да нет уж, сиди родная.
Видишь, тело твоё закидало
снежной, белою кучей.
Ты со мной, ты дома. Здесь круче!
Сахалин-господин не шевелится:
то ли наст тяжёл, толь метелица
слишком сурово кружит.
Лечу в тело. За жизнь борюсь. Ну же!
Из сугроба большого я вылезу,
Сахалин-господин свой вымету
от нечисти всякой стихами!
Подождите меня там папа с мамой.
А я берёзку обниму и рябину,
над могилками поплачу и сдвину
Сахалин с насиженного места:
плыви, как лодка, по ветру!
И бог Островной за тучей
вздохнёт и скажет: «Так лучше».
Бог островной и вьюга
Начинаю жить заново под именем бога:
«Ах ты, царская недотрога,
тебя даже я не трогал,
а жизнь за тебя отдал
сахалинский девятый вал!»
Я устало пожму плечами,
почему-то хочется к маме
и в сырую могилку к отцу:
— Я ведь скоро умру?
— Скоро, дочечка, скоро! —
успокоит бог, словно
сам собрался на небеса.
Я оделась, гулять пошла,
а на улице кружит вьюга:
— Раздевайся, ложись, подруга,
на мягкий, пушистый снежок!
— Врёшь, не вышел мой срок! —
снег стряхнула и в дом иду,
дома тепло в пургу.
А кот-баюн обогреет:
— Открывай свою книжку скорее
да листай, читай и пиши!
— Тихо, киска, я сплю, не дыши,
не урчи с таким грохотом в ухо.
Хорошо. Уютно. Проруха.
Ода острову Сахалин
Если честно говорить о Сахалине,
то нет в нём ничего, окромя глины,
кроме глины, песка и леса.
Нет на острове чудесном интереса,
потому как тот пророс травой:
лопухом, малиной, черемшой,
голубикой, черникой, морошкой
и махонькой редиской на окрошку.
А всё остальное — это море,
и в нём ничего нет, окромя соли,
кроме соли, воды и рыбы —
огромной такой, как глыба.
Глыб у нас тоже много:
утёсы, скалы. Пологом
лежат лишь мелкие долины:
Тымовская и (там, где жила Инна)
славен Долинск-град, там совсем плохо:
то дома цветные, то горохом
катятся детишки по бульварам
не по древним, золотистым, старым,
а по серым, новеньким, разбитым.
Вот стих свой допишу и буду бита
мэрами всех сахалинских городов.
Ну и ладно. А ведь сколько слов
я хотела написать, но не смогла
(рот заткнула я самой себе), пошла
по острову родному в глину, грязь.
Не хотела я петь песен. Понеслась!
Сахалинские закаты
Александровск-Сахалинский,
здесь закат такой былинский!
Дочь гуляла по песку:
— Мама, что-то не пойму
куда солнышко ушло?
— Оно, доча, спать пошло,
не проснётся никогда!
Будет в небушке звезда
освещать горючу жизнь.
— Что ты, мамочка, уймись!
Никогда я не состарюсь на зловещем берегу,
а то я, как моя мама, тут совсем с ума сойду!
Дочь уехала далёко.
Бережок притворно охал.
Солнце вышло из небес
и сказало: «Молодец!»
Александровск-Сахалинский,
был бы здесь закат былинский,
не сочиняла б сказки я.
Всё. Домой читать пошла.
Я живу на Сахалине
На меня смешной японец
косо смотрит, улыбаясь:
— Ты живёшь на Сахалине?
— Я живу? Да уж не знаю,
я дышу или мертва.
Никогда не угадаешь
где сидит твоя душа.
Это Будда одинокий
всё про всех, конечно, знает.
Ты по-русски понимаешь?
Нет? Тогда ты не читаешь
и стихов моих глубоких.
Не люблю улыбок глупых!
Только Будда одинокий
стерпит все твои ужимки.
Ваши боги — невидимки?
Нет, не буду с небом спорить,
я спешу на своё море —
на песке стирать следы.
А ты следом не ходи,
я иду искать покой,
который ходит лишь за мной.
На меня смешной японец
косо смотрит, улыбаясь:
— Ты живёшь на Сахалине?
— Я живу? Не угадаешь!
Забери меня с собой, самурай
Каждый мой стих — окошечко в рай.
Забери меня с собой, самурай!
Я пойду так осторожно,
насколько это возможно.
Невозможно только остаться.
Самурай обещает сдаться
и с собой меня забирает.
Он, пропащий, пока не знает:
не по плечу ему ноша —
его танка изношен,
его хокку замучен.
А стих мой колючий
лежит под церковью золотой и плачет.
Он не значит
для крещёной Руси ничего.
Что ж в рай пойду без него.
Прощай, вояжка,
я партизанка
своих сахалинских лесов!
И не слушая голосов,
я уплываю в небо…
Эх, туда и тебе бы!
Сахалин обидел
Сахалин не хотел, но обидел.
И что обидное — обид никто не видел.
Растительность и та пошла по кругу:
то лопух, то репей — не жизнь, а мука.
— Да и ну на эту жизнь! — сказал упрямо
тот, кто рядом был. По стойке прямо
я ходила по дорогам Сахалина.
Птицы с неба крикнули мне: «Инна!» —
и велели кинуться в болото.
— Нет на острове болот то, —
я зачем-то птицам отвечала. —
Можно жизнь свою начну сначала?
Ну а остров предлагал позлее выбор:
— По деревням ты пройдись, живых покликай
иль пускайся вплавь по океану!
— Ладно, — я рукой махнула, — пойду к маме, —
и три дня над могилкой рыдала.
Остров знал всё это, было мало
ему горя моего, он бросил ветру:
«Зачем поэтам жить на белом свете?»
А ветер пошумел и утих.
Поэтому сижу, пишу я стих.
И все обиды уходят куда-то…
Остров — глыба, он не виноватый.
Край света
Пишут люди, пишут люди
на изнанке букваря:
«Больше в мире зла не будет!» —
закрывать букварь пора
и лететь туда, где небо
разрывает паруса.
На край света, на «Край