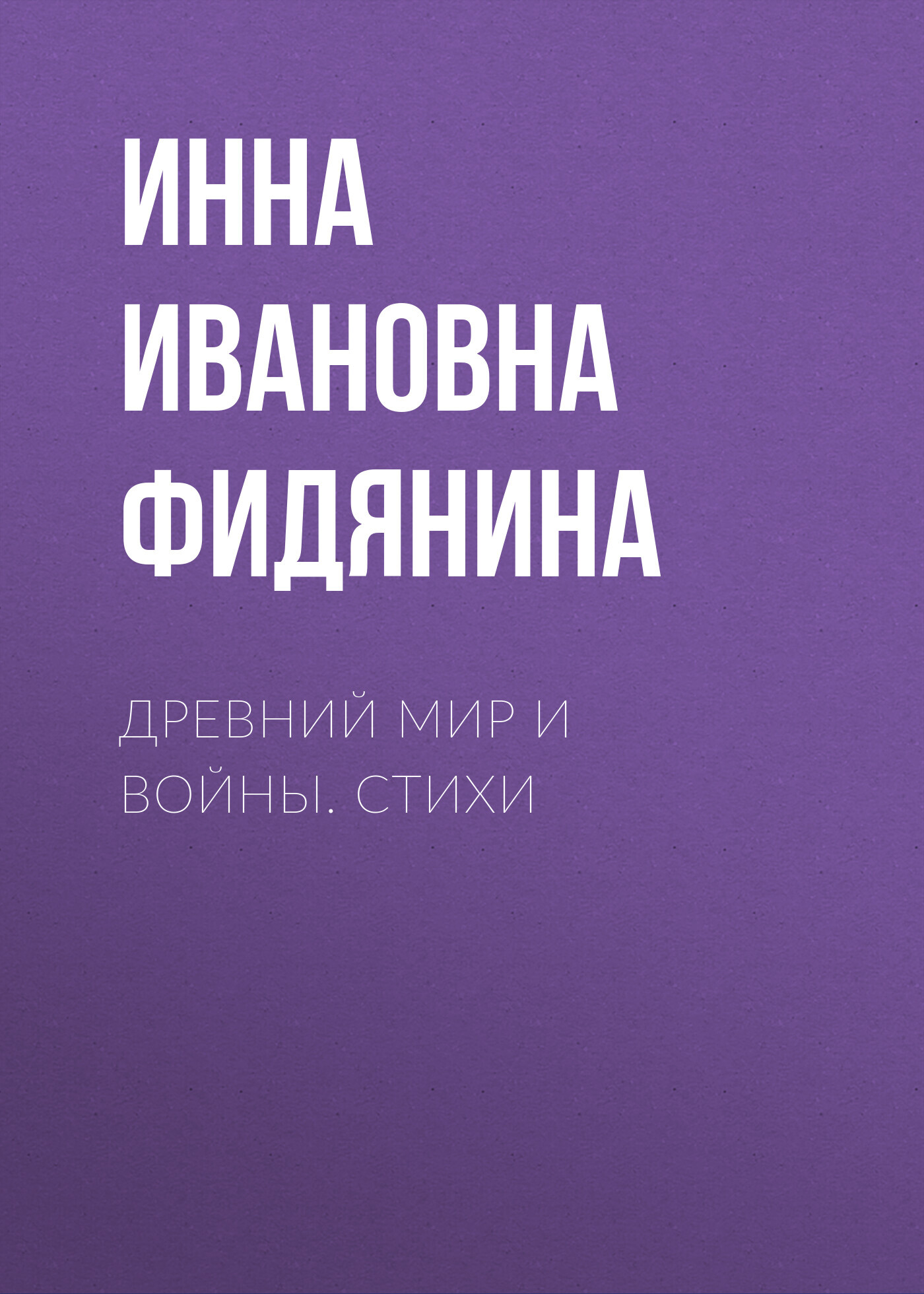время,
думать о нём не резон,
в революцию мир влюблён!
И миру никак не спится:
лица мелькают, лица
и сгорают дотла!
Кому ж ты тут, челядь, нужна?
Разойдутся каторжане печально
по баракам, по лавкам спальным,
накроют мослы сюртуком:
— Вспомнят о нас … потом.
Пока солнце одаривает светом,
смейтесь беззубой улыбкой, за это
о вас не напишут романов,
каторга — неприкрытая рана.
Птичка-невеличка
Каторга-жиличка.
«Птичка-невеличка»
прибежит к бараку.
Мужики до драки:
— Кому же ты досталась?
— Со всеми переспалась!
— От кого родила?
— От лысого детину,
детинку от рябого
и деточку попову.
— И что же там под рясой?
— А всё что есть, то наше!
— А где же твои дети?
— Один зарыт в кювете,
второй схоронен в море,
а с третьим одно горе:
лежит и не вздыхает,
тоже помирает.
Птичка-невеличка,
малая синичка
прилет и скажет:
— Кто с Мариной ляжет,
тому на небе честно
откусит бог то место!
Не спи, Марина, не рожай,
на кладбище не провожай!
Царь далеко,
бог высоко,
мать на облаках,
а отец в своих штанах
кабы сидел тихо,
то не родил бы лихо!
Красно море миражей
Тут каменья вековые
и столетни берега.
Что ж вы, девки молодые,
не приходите сюда:
на волну поматериться
или просто погулять.
Теплый вечер будет длиться.
Как же хочется узнать:
на миру ли мир раскрашен,
на ветру и пыль красна?
Океанский ветер слажен —
надувает паруса!
Где вы, девки? Где ты, мать?
Я пошёл бы в дом поспать,
да неведомый Кощей
не принял моих мощей.
Волны плещут у песка
мать усопшая спала,
а каменья вековые
глазы греют свои злые.
Не ходите никогда
на зовущи берега.
Эти черны корабли —
миражи, миражи.
Эти красны паруса —
лишь вода, вода, вода.
Рифма печальная, заключительная
Есть на острове такое место,
если встал туда — уже ни с места,
так и сгинешь там (медведь тя видел,
а медведя тоже ж — человек обидел).
Да и весь Сахалин тяжелой глыбой
лёг на океан — его не двигай!
Не двигай его никогда,
у него на горбу среда:
сопки, утесы, снега,
нивхи, эвенки и я.
Это не революция, а усталость от жизни
Уход в Сибирь
Мужики и бабы.
Очень сильно надо!
— Говорят, в Сибири
всех царей убили,
без царей в Сибири
хорошо зажили.
— Мужики и бабы,
какого чёрта надо?
— Надо, ой как надо!
От барского уклада
болит у нас головушка,
и мёртвая коровушка
не доена, а съедена
боярскими медведями.
— Мужики и бабы
лежали б на полатях,
сидели б и смотрели,
как хлеба поспели.
Но не сидится мужикам,
не лежится бабам:
дали наши дёру
до самого бору,
до чащи, до леса!
Есть к жизни интереса:
— Избу срубим, будем жить,
на охотушку ходить.
Мост построим у реки,
чтобы наши рыбаки
наловили на уху
небывалую плотву!
А в корзинке у нас
петух с курицей — раз,
утки две и два гусёнка —
это три! А ты, девчонка,
шибко к нам не приставай.
Дед твой с Сибири? Внук наш, знай.
Мужики и просто дети
Жили-были на планете
мужики и просто дети.
Мужикам хотелось строить,
воеводить, мастерить.
Просто детям не хотелось
по-мужицки материть
лес, дорогу и друг друга.
Мужики сказали: «Худо,
надо, братцы, что-то делать,
ведь народ растёт несмелый.
Нужно просто детей
отобрать у матерей
и устроить в лесорубы.
Вот тогда будет не худо!»
Порешили, совершили:
просто деток отлучили
от грудастых матерей,
увезли с собой скорей.
Привезли в леса, в леса
и пустили в погреба,
одели в робу:
«А теперь попробуй
не покрыть нас матом
(мы, вроде, виноваты)».
Дети глянули устало,
матюкнулись, рядом встали
и валили лес, лес
под чей-то волчий интерес.
Быстро дети повзрослели,
просто так заматерели
и сказали себе:
— Материть будем уже
не отцов-дураков,
а у власти злобных псов!
Как вымолвили это, так и сгинули.
Их искала вся планета. Они двинули
по другим мирам да с пилами:
пилить, материть тех, кто вынули
жизнь из душ ни в чём неповинных.
Ты забыл о том? А было ведь.
Мой дом — моя семья
— Нашу семью за версту видно!
Домище у нас завидный
строится всей роднёй.
А комнат то, комнат в нём:
кухня, две спальни и зала.
Чего ещё не хватало?
Живи и рожай детей
да работай быстрей!
Ведь у нас на Руси как ведётся:
кто не спит, у того скотина пасётся,
кто на печке зад свой не греет,
у того Маши растут и Андреи.
Вот вы на меня поглядите:
плечи, морда … боритесь,
ни за что не завалите!
Потому как не грею завалинку,
а бревно на плечо и вперёд!
Глянь, как дом мой встаёт,
стены на солнце играют.
Аж до слёз пробирает!
От зависти плачут лентяи.
А я скоро стану батяней
(жинка сидит, еле дышит).
Не рожай, пока дом не вышел,
яко с картины лубочной.
Ну ладно, рожай, мой клубочек!
Детей нам красивых надо,
таких плечистых, как папа,
таких же шустрых, как мать,
и спесь, которую не отнять!
С такими думками и домище достроен:
— А фамилия наша Егоровы.
Кому не нравится, мимо ходите
да глядите,
счастье наше не сглазьте!
Добрым людям мы говорим: «Здрасьте»,
и кланяемся низко.
Но тем временем близко-близко
подходила к их домику революция.
Ну что ж, Егоровы, теперь сбудется
«счастье» трудового народа.
А вас раскулачат «уродов».
Щи варила стрелецкие
Говорила, говорила.
Говорилку не зашить!
Говорила, что любила
щи стрелецкие варить.
Щи варила стрелецкие,
речи вела повелецкие:
велела, повелевала,
чтобы каша в печи поспевала,
чтобы рос в огороде горох,
чтобы царь наш батька усох!
Палка была на скалку,
палка была на галку,
палка была на пса,
а на нашего короля
ни палки нет, ни оружия.
Щи варю безоружная
да капусту квашу,
хвалю Рассею нашу
и мужа жду безвестного,
всем (никому) неизвестного,
самого отважного
с жизнью не налаженной.
А речи веду повелецкие,
щи варю стрелецкие
и муженька жду расстрельного
всё сказавшего, пустомельного.
Умирай, дурак, на своей каторге.
А обидушка к твоим отцу, матушке
на шею кинется да повесится.
Я щи варю, во мне бесится
на тебя, башка дурья, злобушка:
и века пройдут, а власть в зазнобушках
у бога хаживать будет,
а ты жил иль нет — скоро забудут.
Видно вам нас, не видно
Речник, печник и старые мотивы.
Боже, как некрасиво