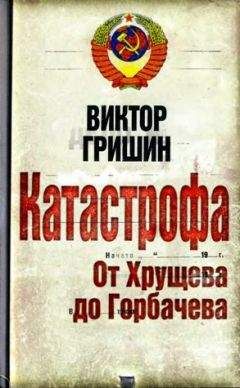Феноменологические реконструкции поэтического мира великого предшественника помогают восстановить Щеголеву и верификационную природу лермонтовского творчества. Так, байронизм Лермонтова, по мнению харбинского поэта-стиховеда, дал весомые «ритмические плоды»: «Это он впервые принес размерные перебои, характерные для английского стиха, но в русском языке считавшиеся недопустимыми настолько, что даже после Лермонтова поэты не решались их употреблять, пока их не узаконили совсем недавно символисты». Мужская рифма – также «байроническое наследие» в творчестве Лермонтова и его открытие для русской литературы, подчеркивает Щеголев: «Мужская рифма вообще менее свойственна русскому языку, в которой наибольший процент слов имеет ударение на
втором и третьем слоге от конца слова, нежели на последнем». Щеголев подчеркивает, что нарочитые «самосковываемость, самоурезывание, самоограничение» придали поэме «Мцыри» «особую выразительность». Молодому критику в ту пору только-только исполнилось 22 года.
Сравнивая музу Пушкина и музу Лермонтова, Щеголев печально констатирует отсутствие у большинства поэтов пушкинской гармоничности: «Сколь с этой точки зрения ясней нам Л., внесший в р<усскую> литературу хаос своей путаной души. Да, – начиная с несчастного, вечно двадцатишестилетнего Михаила Юрьевича Лермонтова, русская литература стала самой исступленной и самоуглубленной из всех европейских литератур. Не от него ли пошла аскетическая муза мести и печали Некрасова и современная околдовывающая муза, питавшаяся цыганскими надрывами, “ночами безумными, ночами веселыми”, муза пышноволосого аристократа, носившего в себе немецкую кровь, отравленную русскою неспокойною кровью, – муза Блока». «Я много жил Лермонтовым, много в него вглядывался и много прикидывал к своей слабой, но – слава Богу – незавершенной личности его могучую личность. Безраздельный восторг – первая стадия моего отношения к Лермонтову, восторг, далеко еще сейчас не изжитый, как ни бился я вытравить его чисто рассудочным путем [обращением к Тургеневу, затем – к Пушкину. – А.З. ]».
Герой лирики Щеголева – наследник образа, подаренного «вечно двадцатишестилетним поэтом» русской литературе и «отравившего» ее вплоть до Блока. В стихотворении «Опыт» поэт определил собственные слова-концепты: одиночество, безвыходность, эмиграция, родина, прозябанье, любовь, русский. Действительно, где бы ни был герой Щеголева, одиночество на первом месте из окружающих его бед. Это видно уже в первых «рубежных» стихах:
Радость… -
Я к ней непричастен.
Солнце. -
Я с ним не знаком.
Что для меня ваше счастье?
Что для меня ваш закон?
(«Стансы»)
Эволюция лирического сознания Щеголева протекала стремительно; в течение нескольких месяцев он переживает метаморфозу от новоявленного харбинского Печорина к иронизирующему над своим юношеским максимализмом мужчине:
Память видит зеленый альбом.
В нем когда-то, как ярый новатор,
Расчеркнулся я словом «любовь», -
Запятая, тире, – «скучновато»!
(«Память видит.»)
Наиболее комфортно герой Щеголева ощущает себя наедине с самим собой и своим внутренним миром:
Вечер. Горизонт совсем стушеван.
Печь, диван, присутствие кота.
Ручкой тонкою и камышовой
Я пишу на длинных лоскутах.
<…>
Музыка несется ниоткуда
В форточку и в уши – напролом.
Обожаю внешние причуды
И, в особенности, за столом.
Звуки музыки воспринимаются этим героем в сложном синтезе физических и эмоциональных ощущений – они холодят, ослепляют, пугают:
И какие созвучия! Чем обогреешь
Их полет? Прикасаясь к ушам, холодят они
До мурашек, до дрожи. И тянет скорее
В освещенную комнату. Там благодатнее.
(«От самого страшного»)
Перманентное состояние лирического «я» – «самое страшное, черствое», «бессонная тоска», вступающая в диссонанс с обычным человеческим уютом:
Чувствую, что с каждым часом чванней
Становлюсь, заверченный в тиски
Горестного самобичеванья
И тоски.
(«Диссонанс»)
Однако тоска Щеголева – совсем иного свойства, чем тоска того же Ачаира, которому было что вспомнить: «шумливые годы, / звенящее время, / поющую юность – / не пьяненький джаз» («В фруктовой лавчонке», 1938) [64] . Тоска Ачаира (и многих других харбинцев старшего поколения) питается болью об утраченной Родине, об утраченной юности. У Щеголева же, который был на 14 лет моложе Ачаира и, соответственно, принадлежал ко второму поколению харбинских поэтов, это ощущение пронизывает его настоящее :
Всё обиходно. Косые
Спят на обоях лучи…
Разве лишь слово «Россия»
Мне необычно звучит.
(«Стансы»)
Что противопоставить одиночеству, тоске, диссонансу? Творчество. Оно воспринимается в императивном ключе (суровое слово долг):
…Пусть клонит в сон – не надо спать!
Будь человеком твердым, будь поэтом.
Не холода, а теплоты, не сна,
А бодрствованья.
(«Живая муза»)
Правда, сам процесс сочинительства запечатлен в образах, сопутствующих недугу и его преодолению: «содрогаешься часто, на рифмы кладешь пароксизмы.» («Опыт»). Но, когда вокруг царствуют «дисгармония, кризис – газетный, словесный…» («Поровну»), необходимость писать становится реальным спасением, действенной антитезой эмигрантскому прозябанью: «Я себе говорю: / Мы сумеем еще побороться. / А пока / стану сетовать, / Стихослагать!» («Устаю ненавидеть.»).
Констатируя дисгармоничность русской лирики, Щеголев не может вырваться из антиномий собственного поэтического сознания. Он этого и не скрывает: «я – русский, и мне соблазнительны надрывы.. .» [65] . Многие стихотворения Щеголева построены на антитезе. В «Опыте» это противопоставленность сентенций «ты – захудалый и странный чужак-эмигрант» и «ты – сильный гордый русский», в «Поровну» – оптимистические утверждения, что «На десяток плохих есть десяток хороших, /На десяток больных – десять кровь с молоком…», а в стихотворении «Два поезда» «проклятый уходящий поезд» противоположен «милому приходящему» и т.д. Точно так же противоречив и многолик сам герой щеголевской лирики: он то «чудак и уродец», «то богатырь, то калека, то филантроп, то Марат» («Стансы»), то Вий, то Демон, то карлик.
Основной формой воплощения такой противоречивой натуры становятся демонические и дьяволоподобные персонажи, способные создавать довольно прозрачное аллюзивное пространство в сознании читающих. Одна из причин дьявольской одержимости – ум героя, этот « морщинистый карлик ехидный» :
Мой ангел! Я страшно умен
Умом чудака и уродца. [64]
<…>
Виски набухали от дум,
Мне чудился звон панихидный.
И – вправду – скончался мой ум,
Морщинистый карлик ехидный.
Он трясся, пощады моля,
Топорщился злобно, упорно,
Но тяжко прижала земля,
Прикрыла пробившимся дерном.
(«Обновленье»; курсив мой. – А.З.)
Мифогенной основой щеголевского пандемониума [64] становится внутренняя природа героя:
Это выглядит мрачней могилы,
Это гибнет человек живьем.
Но какая дьявольская сила
В нынешнем отчаяньи моем!
(«Всем мои стихи доступны. Всем ли?..»; курсив мой. – А.З.)
Устаю ненавидеть.
Тихо хожу по проспектам.
«Некто в сером» меня
в чьи-то тяжкие веки влюбил.
Устаю говорить.
Пресловутый и призрачный «некто» – [66]
Надо мной и во мне,
И рога наподобие вил.
(«Устаю ненавидеть»; курсив мой. – А.З.)
Помимо «Некто в сером», пробравшегося в лирику Щеголева при помощи Л. Андреева, инфернальную сущность его лирического субъекта сопровождает гоголевский Вий:
Угроза новой затяжной любви…
Ах, не попасть бы из огня да в полымя.
Борюсь с собой, держу глаза, как Вий,
Прикрытыми ресницами тяжелыми.
(«Заговор»)
Вий, как известно, обладает способностями, превышающими «обычные» способности рядовой демонической братии. Он видит и знает не замечаемое другими. Именно поэтому в знаменитой «миргородской» повести призывают Вия демоны, не справляющиеся с Хомой Брутом. Вий воплощает сокровенное знание, а в мифологии многих народов обладание этими надчеловеческими способностями неотделимо и от волхования, и от поэтического экстаза, и от вдохновения. Другое дело, что если в знаменитой повести Гоголя Вий требует: «Подымите мне веки!», то у Щеголева «виеподобный» герой, напротив, уже старается не смотреть на окружающий мир, предпочитая «держать глаза / прикрытыми ресницами тяжелыми». Ведь «поднять веки» значит подвергнуться очередному «припадку вдохновения». «Вочеловечить» этого полудемона может только порыв вдохновения: