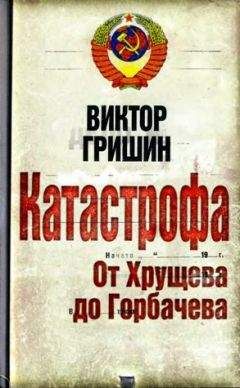«Некто в сером» меня
в чьи-то тяжкие веки влюбил.
Устаю говорить.
Пресловутый и призрачный «некто» – [66]
Надо мной и во мне,
И рога наподобие вил.
(«Устаю ненавидеть»; курсив мой. – А.З.)
Помимо «Некто в сером», пробравшегося в лирику Щеголева при помощи Л. Андреева, инфернальную сущность его лирического субъекта сопровождает гоголевский Вий:
Угроза новой затяжной любви…
Ах, не попасть бы из огня да в полымя.
Борюсь с собой, держу глаза, как Вий,
Прикрытыми ресницами тяжелыми.
(«Заговор»)
Вий, как известно, обладает способностями, превышающими «обычные» способности рядовой демонической братии. Он видит и знает не замечаемое другими. Именно поэтому в знаменитой «миргородской» повести призывают Вия демоны, не справляющиеся с Хомой Брутом. Вий воплощает сокровенное знание, а в мифологии многих народов обладание этими надчеловеческими способностями неотделимо и от волхования, и от поэтического экстаза, и от вдохновения. Другое дело, что если в знаменитой повести Гоголя Вий требует: «Подымите мне веки!», то у Щеголева «виеподобный» герой, напротив, уже старается не смотреть на окружающий мир, предпочитая «держать глаза / прикрытыми ресницами тяжелыми». Ведь «поднять веки» значит подвергнуться очередному «припадку вдохновения». «Вочеловечить» этого полудемона может только порыв вдохновения:
Одно ужасное усилье,
Взлет тяжко падающих век,
И – вздох, и вырастают крылья,
И вырастает человек.
Щеголев был поэтом-книгочеем, поэтом-умником. Он начал с Лермонтова, затем обратился к А. Белому. До самого конца жизни ему был близок А. Блок – об этом свидетельствуют найденные остатки архива, где блоковские сборники перепечатаны на пишущей машинке. Новаторская техника, основные ритмические «составляющие» стиха аттестуют Щеголева как поэта, слишком «взыскующего» к форме. Благодаря им лирические откровения Щеголева выделяются особой энергетикой ритма, оригинальной словесной рокировкой [67] .
В предисловии к сборнику «Семеро» [68] Ачаир точно определил поэтических кумиров Щеголева: «Андрей Белый, Цветаева, Маяковский, Пастернак, формалисты – любимые поэты у Щеголева <.. .>» [69] . Формалистские ориентации Щеголева заслужат довольно однозначные оценки в редких воспоминаниях чура-евцев: «Подчеркнуто четко, с прекрасной дикцией читал свои холодноватые стихи Николай Щеголев», – напишет Михаил Волин [70] . Владимир Слободчиков не единожды отметит «вычурность» и «манерность» стихотворений Щеголева: «Щеголев слишком увлекался авангардистскими изысками – гонялся за рифмами, которые порою сводили его стихи на нет» [71] . Все эти более поздние суждения можно было бы отписать по ведомству поэтической конкуренции, однако в них была существенная доля истины.
Музыкальные и звукосмысловые интенции Щеголева наверняка были связаны с его профессиональной музыкальной подготовкой. Алексей Ачаир, характеризуя близкого ему в этом смысле поэта, писал: «Ему – пианисту, пожалуй, – Стравинский ближе Шопена, Прокофьев – роднее Бетховена. Музыка сфер – не его стихия, напевность – не его жанр» [72] . Обнажившиеся в подобных сравнениях ценностные оппозиции метафорически обозначают знание Щеголевым, наряду с музыкальными, художественных ориентиров Серебряного века (музыка сфер, напевность) и его близость к поэтике русского авангарда. В этой же статье были весьма тонко подмечены и особенности мировидения юного друга Ачаира: «В старой, быть может, провинциальной библиотеке, где на полках лежат труды философов и древних мастеров, мы видим Щеголева чутко прислушивающимся к голосам прошлого. Он сам сказал бы: вслушивающимся. От этого вслушивания, от полноты восприятия Щеголев впадает иногда в отчаянье, его распирает; он вместить не в силах уже своих впечатлений. Но впереди него, через несколько лет, другой Щеголев выявит в стройном сочетании неопантеизм с налетом урбанизма, влияния формализма и – “математики Черни”. Не только любовь к природе, но жадность к жизни, к ее творческому биенью с насмешкой по адресу шантрапы, покушающейся в бессилии покончить с собой, в городах или в тайге – безразлично. Жизнь так многообразна. Было бы желанье и уменье жить. В этом – Щеголев [курсив мой. – А.З.] » [73] . Как видно, в своем дружеском эссе Ачаир подметил у младшего товарища любовь к философии, искусству, музыкальность, впечатлительность и – жизнелюбие. Немного позднее, в 1937 году, Ачаир напишет стихотворение «Форма», где, обращаясь, скорее всего, именно к своему бывшему питомцу – «взыскующему поэту», будет сетовать на то, что тот стал уж слишком увлекаться «метрономом», создавая свои «графленые записки» [74] . На роль «взыскующего» с самого начала своего творчества с полным правом мог претендовать именно Николай Щеголев:
Стихи читаю вслух и про себя,
Ритм создаю холодный, острый, бритвенный,
И рифмы обличительно скрипят…
Я – как монах, настроенный молитвенно.
(«Заговор»)
Игровое начало распространяется на сам принцип порождения поэтического языка Щеголева. Освобождаясь от стихии «чистого лиризма», поэт в первую очередь иронически переосмысляет лексические клише и «высокие» фразеологизмы традиционной образности, например: «угроза болезни», «затяжная болезнь» – угроза новой затяжной любви, «припадок злости» – но в припадке жесточайшем долга, «свобода личности» – свободе личности назло, «копить злобу» – накопляешь безвыходность и т. д. Привнесение новых смысловых оттенков, остраняющих образ, достигается часто путем контаминации разговорных клише и выражений с переносными значениями на основе омонимии: «получая гроши, получая презренье подчас», либо путем умножения однородных членов предложения, создающего эффект иронической градации: «на земле, где слывешь чудаком захудалым и странным…», «эмигрантом до мозга костей, с головы и до ног», «думаю бессвязно и беспланно о душе», «долетает из дальнего сада мелодия. /Вероятно, продукт математики Черни, /Виртуозности Листа, Сальери агония…» и т. д. Как видно, формалистская ориентированность поэта была предопределена особенностями его языкового мышления – склонностью к каламбурам, остроумной рокировке образами на уровне внутренней формы слов.
Особого внимания заслуживают опыты Щеголева в области рифмы. Помимо множества вариаций разнообразных способов рифмовки, употребления неточных рифм и их де-грамматизации, излюбленным приемом Щеголева становится паронимическая рифма, особенно представляющая его «лица необщее выражение»: марксизма – пароксизмы, одинок – до ног, хлопотно – хлоп о дно, ехидою – панихидою, с ленью я – перечисление, собачками – запачканный, погоню – агония, нечаянно – отчаянье, любви – Вий, Мармеладов – Ленинграда, полымя – тяжелыми и т. д. В результате такой рифмической организации, «сталкивающей» столь далекие стилистически и понятийно слова, рождается ярко выраженный каламбурный эффект. Автор активно обращается к аллитерации, особенно на шипящие: «И ч ерен я, как ту ч теку ч ая гряда», « Ш у ш укаются, ры щ ут надо мной, ш у ш укаются, ры щ ут, у х и щ ряются» и т. д.
Но на уровне поэтических деклараций более современны и актуальны для него были не футуристы и даже не мэтры Серебряного века, а Грибоедов, Гоголь, Достоевский, Толстой, Чехов. Щеголев демонстративно подчеркивал свою зависимость от классической традиции, впитанную с детства: «До боли, до смертной тоски / Мне призраки эти близки…» («Достоевский»). Знаковые фигуры XIX в. русской литературы становятся «живыми» спутниками, с которыми он себя сравнивает: «Словно Гоголь я – в турецкой феске, / Остролиц и холоден, как лед.» («Ночью»); «Ведь это, пропив вицмундир, / Весь мир низвергает, весь мир / Всё тот же, его, Мармеладов / (Мне кажется, я с ним знаком).» («Достоевский»).
Зачастую взаимоотношения с огромным корпусом русской литературы приобретают характер интертекстуальной полемики, одним из приемов которой становится цитирование, переходящее в композиционный принцип:
Я пуст, как эта даль
За дымкой паутины,
И черен я, как туч
Текучая гряда;
<.>
Зачем я – человек?
Души моей извивы
Пронизаны навек
Суровым словом: долг.
(«Жажда свободы»)
Реминисценции из Пушкина и Блока создают особое семантическое пространство. Стихотворение Пушкина «Редеет облаков летучая гряда…» напоено умиротворенными воспоминаниями о восходе над «мирною страной, где всё для сердца мило.», о юной возлюбленной. Блоковские строки («И все души моей излучины / Пронзило терпкое вино.») предлагают еще один рецепт бегства от действительности – «туда», на «дальний берег» опьяненного сознания. Но – ни то ни другое не востребовано героем Щеголева: ведь это всего лишь «избитые мотивы», подстерегающие, «как придорожный волк», то есть таящие опасность – умиротворения, повторения, иллюзии возвращения в прошлое. Поэт фактически обвиняет «прежних поэтов» в том, что