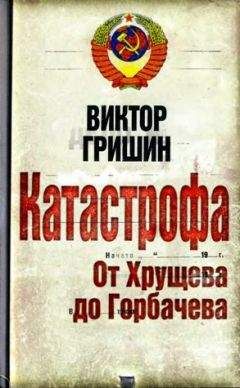…посмели они истаскать
Всё дотла, и всё выпить до краю,
И беспечно мотать до меня
То, что нынче во мне закипает,
Улыбаясь, дразня и маня.
(«Ровно в восемь»)
Щеголев жаждет новых тем, ему хочется найти иную, «живую музу с узкими глазами» [курсив мой. – А.З.], которая смогла бы изменить жизнь настолько, чтобы было «не только умирать, / Но даже, даже вспоминать об этом / Грешно…» [75] . В этом – спасение:
И странными становятся тогда,
И слышными как будто издалека
Мучительные вдохновенья Блока,
Несущие свой яд через года.
(«Живая муза»)
Но и в этом остранении от своих ближайших предшественников можно увидеть один из способов модернистского жизнестроения – олитературивания своего быта и своих переживаний. Явным образом этот процесс запечатлен в любовной лирике.
Мы не знаем ничего о сердечных увлечениях Щеголева эмигрантской поры – времени наиболее терпких ощущений и ярких впечатлений мужчины до сорока. Всё, что есть в нашем распоряжении, – это лирический сюжет жизни его «alter ago». В нем раскрываются самые разные стороны щеголевского восприятия возлюбленной (или возлюбленных?):
Ты помогала мне в успехе
На утомительной земле,
Ты создала мои доспехи,
Ты сделала меня смелей,
Неуязвимей и злорадней…
И всё, что мне тобой дано,
Я взял, но твой покой украден,
Я не люблю тебя давно.
(«Ты помогала мне в успехе.»; курсив мой. – А.З.)
Иногда герой Щеголева пытается найти спасение в любви, надеется, что лирическая героиня («мой ангел») способна побороть его дьявольскую природу:
Люби меня всей чистотой,
Которой я стыжусь,
Люби меня любовью той,
Которой я боюсь.
<…>
Я новым ликом обернусь,
И, став самим собой,
Свободно солнцу улыбнусь,
Что встанет надо мной.
(«Люби меня всей чистотой.»; курсив мой. – А.З.)
Он любит принимать разные облики, например – истинного змея-искусителя, обуреваемого темными страстями и преступными желаниями. Не смущаясь, такой герой признается: «недаром / Тяжелый мой жаден взгляд», в нем – «жестокий желтый огонь». В отношении юной героини он испытывает «страшное чувство», затевает « темное дело». Даже жесты его – эротизированные и одновременно отвратительные – создают тероморфные аллюзии на чудовищ:
…Прерывисто, злобно дыша,
Над нею в танце
Ползучем склоняюсь я:
- Моя, моя, несмотря ни на что, – моя!
(«На балу»; курсив мой. – А.З.)
С годами сквозь густую мглу демонических страстей всё чаще проступает лицо неуверенного в себе, «ветрового», «порывистого» мальчишки. В таких стихах нет места ритмической виртуозности, лирическим героем владеет непосредственное чувство, о котором говорится просто и откровенно (например, «Кошка»). Поэтому не сами по себе «формальные» признаки, а прорывающаяся сквозь них пронзительность интонаций делает лирику «ветрового, недоверчивого» [76] Щеголева причастной к настоящей поэзии. Умение с первой фразы захватить читателя, погрузить его в мир собственных переживаний и заставить принять их за свои дается далеко не каждому поэту.
Лирическое творчество Щеголева становится наглядной художественной реализацией той поэтической категории, которую вывел Ю. Н. Тынянов в связи с лирикой А. Блока, назвав ее «лирический герой» [77] . На протяжении всего творчества Щеголева до последних стихотворений этот герой биографически неотделим от самого автора. Мы можем прослеживать поступательное развитие этого авторского «двойника» – от юношеской поры, «когда мы любили и нежность в любви прозревали», до разочарованной старости, где он уже «постаревший, угрюмый, / Тих, сутул, как сова». Этому герою, с полнотой вобравшему лермонтовский душевный надлом, присуще и блоковское стремление к «вочеловечению».
Неудивительно, что такой сложный и многогранный «вслушивающийся» поэт вместе с Николаем Петерецем становится во главе «чураевского переворота». Чураевские события 1932 г. Ю.В. Крузенштерн-Петерец представляет как настоящую «революцию», борьбу двух поколений поэтов. Идеологом прогрессивного литературного движения в этом контексте выступает Петерец: «Между тем в Харбине, уже занятом японцами, находившемся в преддверии японо-фашистского террора, Чураевка развивала серьезную работу. Работе этой не помешал, а наоборот, способствовал устроенный группой молодежи переворот. Во главе этой группы стояли Николай Петерец и Николай Щеголев, считавшие, что для роста поэтов недостаточно одних открытых вечеров с аплодисментами дружественно настроенной публики, и что необходимы серьезные студийные занятия. Было много споров и относительно направления. Почему именно – Чураевка? Сибиряками молодые поэты себя совсем не чувствовали, имя Гребенщикова их вовсе не влекло. Но за кем же идти? За футуристами? За символистами? За акмеистами? Во всем этом заплеталось слишком многое – Маяковский с его большевизмом, Блок с его вопросами, никогда не разрешенными, либо задушенными смертью, – выбор языка – у кого учиться – у “московской просвирни” или у “блистательного Санкт-Петербурга”? В конце концов, остановились на Петербурге и на акмеистах – поэзия для поэзии, строгая школа, мужественное стремление к “акмэ”, пусть недосягаемому, – всё равно, чем труднее, тем лучше. Так в Чураевке создалась литературная студия “Цех поэтов ”, с Гумилевым – духовным вождем и императором, управлявшим, из-за гроба, крошечной монархией внутри либеральной республики [курсив мой. – А.З.] » [78] .
Этим воспоминаниям вторит В. Перелешин: «Большой переполох вызвало создание Петерецем параллельной “Чураевке” организации – Круга поэтов, которая собиралась там в те же часы, что и “Чураевка”, но имела другое руководство. В этот момент “Чураевка” окончательно вырвалась из-под благосклонной опеки Ачаира, фактического основателя, устроившего для нее приют в помещении ХСМЛ и всячески ей помогавшего» [79] .
Крузенштерн-Петерец реконструирует события: «в начале марта 1933-го А. Ачаир, прочитав доклад “Опыт Чураевки”, заявил о том, что он слагает с себя обязанности руководителя, после чего Н. Щеголев и Г. Гранин вышли из состава руководства » [80] . Но почему и сподвижники Петереца вдруг вышли из состава руководства? Этот факт мемуаристка никак не комментирует, зато нам он может многое объяснить в ее дальнейшем неприязненном отношении к Щеголеву и в отношении Петереца к Гранину.
По словам В. Слободчикова, Щеголев очень быстро понимает, что Петерец ввел его в заблуждение, что новообразованный «Круг поэтов» – это удар по Ачаиру, с которым у него были дружеские отношения, и объявляет о выходе из «Круга» [81] . На том заседании Ачаир подробно проанализировал деятельность кружка за прошедшие восемь лет и подчеркнул, что свою задачу – подготовить собственных лидеров из кружка молодежи – «Чураевка» выполнила. Возможно, именно в то время произносил он слова, позднее оплотнившиеся на бумаге: «я считаю, что всякая попытка найти общий язык и начало дороги к Истине – уже плодотворна. Можно идти рядом, параллельно, или расходясь (не лучше ли сходясь), но – к одной цели» [82] . Любопытна реакция слушавших его отчетный доклад: «На непосвященных эти слова произвели впечатление разорвавшейся бомбы: “Чураевку” невозможно представить без А. Ачаира» [83] . Вероятно, именно эта щекотливая ситуация заставила порывистого (подозреваем – совестливого) Щеголева сложить с себя полномочия председателя «Круга поэтов»… Но отношения с самим Ачаиром всё равно дают непоправимую трещину.
В 1936 году Щеголев перебирается в Шанхай, примкнув к своему харбинскому приятелю Николаю Петерецу. О шанхайском периоде жизни Щеголева мы узнаем из воспоминаний всё той же Юстины Крузенштерн-Петерец. Поначалу он сближается с «младороссами» [84] , редактирует «Литературную страницу» в газете «Новый путь» (о чем есть упоминание и в анкете БРЭМ его отца). И вновь 27-летний Щеголев «взялся за дело, засучив рукава», пишет задорные критические статьи. Так, в самой первой под хлестким названием «Долой дилетантизм» он высказывается: «У каждого из нас есть чувствованья… С чувством пишет всякий гимназист, но это еще не делает его творения искусством»; «Сколько за то время было выпущено гадких в художественном отношении книжонок, претендующих на “нутро”, на верное изображение быта, в которых, однако, искусство и не ночевало», завершая дерзким пассажем: «Гимназисты, достигшие сорокалетнего возраста, не думайте, что вы работаете на пользу русской словесности, если вы остаетесь дилетантами. Дилетантизм в искусстве – явление преотвратное, и стоит теперь начать с ним борьбу не на жизнь, а на смерть» [85] . Приводит мемуаристка и другой пример, когда Щеголеву пришлось объяснять «разделанному под орех» поэту «из есаулов», что стихи, помимо вложенной в них «души», требуют еще и поэтического мастерства. Любопытны при этом характеристики «критика», вообще «легко смущавшегося», красневшего, но готового «с безумством отчаянья», «неумолимо» доказывать свою точку зрения человеку пусть и много старше его, но не сведущему в таинствах, а главное – мастерстве стихотворчества. Крузенштерн-Петерец резюмирует: «Ни один из них не созрел еще тогда до того, чтобы подходить к книге холодно – аналитически, оставляя в стороне те самые “гимназические чувствования”, над которыми они издевались» [86] .