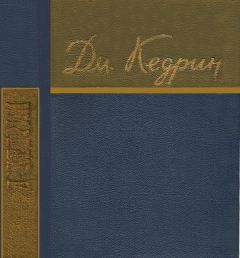Артемий Ильич, предсельсовета, мелькает в течение дня то у молотилки, то на складе горючего, то на деловом дворе плотничьей бригады. И всегда он собран, бодр, подтянут, несмотря на свои шестьдесят лет, и всегда в руках у него командирская полевая сумка, где хранится печать.
Так уж поважены им ребятишки в деревнях — идти навстречу с надеждой, что и на этот раз Артемий Ильич достанет из сумки яблоко, угостит мальчика или девочку и скажет:
— Это тебе хитрая яблоня прислала!
Случилось мне быть у Артемия Ильича в гостях, первое дело пошел я хитрую яблоню смотреть.
Она стояла у стены коровника, в затишке, и ничем не отличалась от обыкновенных яблонь.
— В чем же тут хитрость? — спросил я Артемия Ильича.
— А в том, что яблоня от роду была дичком, а теперь культурная стала.
— Но при чем же хитрость? — все еще недоумевал я.
— А при том, что яблоня догадалась под коровник корни пустить, стала крупные яблоки рожать, сама себя садовой яблоней сделала. Вот и вся хитрость!
Он хотел что-то на людей перевести, но не стал, — Артемий любит человека озадачить, чтобы он сам подумал.
Володя
Двадцатилетний колхозник Володя затягивает веревку на большой вязанке сена.
— Скоро она у тебя растолстела! — говорит ему односельчанин, пожилой человек.
Только свои деревенские поняли бы, на что он намекал.
Володя недавно женился, и жена его теперь ходит на сносях, полная.
Володя припал коленями к сену, натянул, завязал и поднял на спину. Лямки врезались ему в плечи.
— А вот ты и солдат! — сказал ему все тот же дед.
И это был намек. Осенью Володе идти в армию.
Дед прошел мимо, вся его фигура говорила о том, что он все еще думает и осуждает Володю за то, что нехорошо молодой человек спланировал свою жизнь. Перед самой армией женился, а в жены сманил девушку с третьего курса сельхозтехникума. И ее глупо с места сорвал, и себя не устроил.
— Эх, ты! — сокрушался старик и все сожалеючи качал головой.
А Володя шел и посвистывал.
Докладчица
В белом опрятном платочке, в мужском черном пиджаке похожа она была при своей седине на профессора сельской жизни, если бы такие должности выбирались в деревне на сходках.
Бабка окончила свой доклад о семнадцатилетней работе на птицеферме словами:
— Сложности в курином деле невелики, главное тут — радение. Взять цыпленка. Он — сама нежность и квелость. Не уберег от дождя — и все.
Она уже уходила с трибуны и уже щелкнула было ученическим портфелем, который испросила на один вечер у внучки Кати, да поднявшийся из людского скопа общественно не проявившийся в колхозе старик остановил ее.
— Все это правильно, — начал он, обращаясь к однодеревенцам, — моя бабка птицу познала, яйцо у нее сверхплановое, прибыль не шутимая, колхозу выгода есть, но я хочу указать ей на недостатки, как по случаю того, что мы с ней законом скреплены на совместную жизнь.
Деда слушали, он овладевал аудиторией.
— Курица — это план! А дед что? Три дня прошу пуговицу пришить — и все время у нее нет. И потом, — он оглядывается, ища сочувствия, — почему бы для показательной бабки воды не подвезти с колодца? Ходи, дед! А у меня еще с первой империалистической нога подвертывается, ушибусь вусмерть — вот тебе и вдова! А я еще за такой бабкой хочу пожить, фильмы новые посмотреть.
Народ смеялся, избач хмурился, бабка с гневным на старика видом уходила.
Казнь
В жаркие сенокосные дни нет больших бед, чем слепень. Ни одна лошадь не найдет себе покоя от их наваждения. И на что уж в конюшне совхоза прохладно, и лесу нет поблизости, а набьется сюда лошадиный мучитель, и иной раз еле перегородки держатся, когда сильные ломовики бьют о горячие доски, спасаясь от оводов.
И если попадется в руки конюху Грише Изнаирову большой, матерый слепень, обыкновенно садящийся на самый круп, на самый ток крови и самое беззащитное место, то конюх объявит во всеуслышанье:
— Казнь!
Затем замажет слепню глаза дегтем и пустит его, и начнет он завинчиваться в небо, да так там и сгинет на казнящем полете.
Пчеловоды
Пчеловоды выпили, закусили свежим сотовым медом, закурили.
— Как это у тебя всегда ульи гудят? — спросили одного из них.
— Я силу в пчеле держу — вот и вся премудрость. Не жалей, корми ее, она всегда вернет.
Ужин
Деду Трошкину подали ужин. Он поводил ложкой по большому алюминиевому блюду и сказал бабке:
— Мяска покроши!
Прихрамывая, бабка подала на тарелке мясо и сбросила его во щи.
— Вот теперь это щи!
Когда он стал пить чай, рассердился:
— Опять спитым потчуешь!
Бабка заварила свежего чая и подала деду. Он стал пить с удовольствием:
— Вот теперь это чай!
Поужинав, попив чаю, дед разулся, разделся до нательного белья и, хитро поблескивая глазами, сказал:
— Пойду в царство небесное самым коротким путем! И полез на печку.
Чем не безбожник?!
Уважительная причина
Колхозное стадо пасется по краю леса и медленно пробирается к деревне.
Скоро вечер.
Обращают на себя внимание козы. Они похожи на древних бородатых старцев, прочитавших Библию и знающих о сотворении мира.
Коровы доверчиво обнюхивают каждую травинку.
Но вот за их спинами раздается выстрел кнута, и все стадо переходит на крупный шаг.
— Петька! Останови стадо! Ругаться будут! — кричит пастушонку пожилая пастушка.
А он даже и не собирается унять своего самовольничанья:
— Ходом, ходом! Сегодня кино!
Письмо на снегу
Вдоль лесной январской тропинки на мягком, пышном, невесомом снегу что-то крупно написано прутиком. Я медленно иду и читаю.
Это не бессвязные слова, это короткая, вылетевшая из девичьего сердца песенка, в которой горечь, вздох и признанье;
У залетки моего
Огонек горел — погас,
Было времечко такое,
Роза, я любила вас.
С кем разговаривала девушка?
Кто должен был услышать эту сердечную жалобу?
Лежат глубокие снега, тенькают синицы в лесной тиши, а где-то бьется разочаровавшееся сердце и ищет новую тропинку в своей жизни!
На пасеке
Июнь в полной силе. Орут грачи на осокорях, лопочут ласточки на проводах, а на пасеке роятся пчелы. Не успевает огребать рои колхозный пчеловод Петрович. Он стоит у яблони и деревянным половником снимает с привившегося к сучку пчелиного роя знойную, остро пахнущую живую массу.
Рядом с ним высокий худой мужчина — ревизор из района, гость. Петрович молча делает свое дело, а ревизор высоким фальцетом поет, как в опере:
— Какая целеустремленность! Не летит куда зря, а склубливается, немыслящая сущность, а как устраивается!
Пчелы лезут из роевни и лепятся на край стенки.
— Не лезут они туда! — тревожно замечает гость.
— Влезут, Василь Васильевич! — с улыбкой доброго человека успокаивает Петрович гостя. — Дай матке привиться, все в куче будут!
— Какая разумность, сверхъестественность устройства! — поет Василь Васильевич.
В это время под защитную сетку заползает пчела и жалит его.
Лицо ревизора искажается болью, но он находит в себе силы сохранить тон восхищения и любознательности.
— За что это? — спрашивает он ужалившую пчелу.
— Чужой разговор слышут! — объясняет Петрович.
— Подумайте, немыслящая сущность, а разговор понимает!
Петрович молчит. Еще снялся рой, надо успеть и его устроить на новое жительство.
Никита
Никита, бригадир совхоза, с которым мы и рыбу ловим, и в гармонь играем на вечерках, едет на велосипеде вдоль стены на редкость удавшейся пшеницы.
Я на ходу спрашиваю:
— Никита, как с урожаем?
— Хорошо.
— Как с покосом?
— Хорошо!
— А как с Мотей? (Это его жена.)
— Плохо. Толстеет, как печь, четвертого просит.
— А ты бы кого хотел — мальчика или девочку?
— Некогда, потом, потом.
Он нажимает на педали, и с межевой травы веером разлетаются кузнечики.
Точные ответы
В сумерках пробирается Иван Шерстнев, тракторист.
— Ваня?
— Я.
— Как дела?
— Ничего.
— Картошку выкопал?
— Да.
— Дом утеплил?
— Не совсем еще.
— В сельпо идешь?
— В сельпо.
— Выпить?
— Точно.
— А потом?
— А потом к Райке под бочок.
— У тебя трое?
— Трое.
— А еще не предвидится?
— Точно не могу сказать.
Иван не выбирает, где суше идти, чешет по грязи напрямую. Как же он обратно пойдет?
У сельпо
У сельпо, у бочки с керосином, шумел народ. Горючая жидкость журчала по посудам покупателей. Всем хватило, только вот Пафнут-шорник опоздал — хомуты перетягивал, увлекся. Он пришел из соседней деревни в то время, когда зимний день погас и зажгли свет в избах.