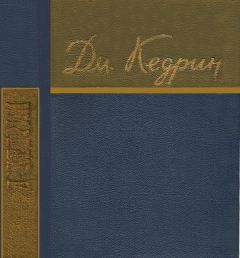Пафнут сел на ящик у пустой бочки, закурил, стал оглядываться.
Большая Медведица лежала своим дном на крыше магазина, и только ручка задиралась кверху. Пафнут глядел на созвездие, а думал и говорил о Любке, завсельпо:
— Вот как у нас: все расторговала и — ковш на крышу!
Мефодий
— Отчего у тебя тополь так рано все листья сбросил?
— Старый, вот и сбросил, — сказал Мефодий и поглядел на палисадник соседа: — А вот у них молодые тополя, так они все еще в листьях.
Сентиментальный вальс
В избе сидит пожилая Ефимовна, сельский врач. Сколько людей ей пришлось переслушать за день в сельской больнице, сколько коек обойти. Отдохнуть бы! Но вместо отдыха выехала Ефимовна за семь километров к больному.
Шумит самовар, потчуют доктора хозяева хаты, а Ефимовна и не дотрагивается до еды. В репродукторе мягко и грустно звучит «Сентиментальный вальс» Чайковского. Ефимовна покуривает и осторожно убирает пепел с конца папиросы.
Как отжившие листья, падают из уст Ефимовны слова:
— Третьего дня еду через козельский лесок и думаю: меня не будет, а он все будет. Кто после меня этой дорогой поедет — молодой, старый?
Все молчат, а из репродуктора льется «Сентиментальный вальс». Ржет больничный конь и стучит копытом в глухую деревянную стену.
Надо ехать!
Красота
Никто не осмелится в деревне противиться общему гласу народному, что красива, скажем, такая-то девушка или женщина. Кто-нибудь рисует эту красавицу, а остальные слушают да иной раз подправят где, чтобы из портрета ни одной черточки не потерять.
На этот раз о красоте заговорила старая Прасковья:
— Вот вы, бабы, и оспорите и не согласитесь со мной, а лучше Тани Вавиловой нет из молодых баб. Я на покосе залюбовалась на нее. Стоит как рюмка, косу ведет исподволь, пропусков нет. А сама, сама! Брови как коромысло, хоть ведра вешай, глаза синие, смелые, на поступи покачливая, но в меру, не то что утка-крякуша. Улицей идет — каблука не сломает, чулок не смарает. Приглядистая, приветливая, душевность всегда при ней. Словом, как в старину пели, — с перушка перепЕлушка, с голоса красна девица.
Прасковья смолкла. К сельпо шла сама Таня Вавилова. Телогрейка на ней была какая-то особая, не казенная — и карман перешит, и рукава на пуговку. С румяных точеных губ Тани, как стая воробьев, слетала серая подсолнечная шелуха.
— Танька, угости!
— Нате!
Она раздала все семечки и немного смутилась, поняв, что говорили бабы про нее.
К красоте природа не позабыла дать ума и догадливости.
Театр
К одинокой пожилой колхознице приехали в выходной день две дочери и зять. Наговорились, наужинались, а еще не поздно.
— Тушите свет! — сказала мать.
Потушили. Дочь, которая с мужем, легла на кровати, вторая, младшая, устроилась с матерью на русской печке. Лежат, а никто не спит.
Зять встал, зажег лампу и открыто возмутился:
— С девяти часов спать! С ума сошли.
Младшая дочь, веселая, смешливая девушка с ямочкой на подбородке, открывая ситцевую занавеску, посматривала с печки. Ее крутые плечики были свежи и упруги. Глаза задорно горели, и по ним можно было видеть, сколько сил рвалось, искало выхода в этой простой, открытой душе. Она нашла на печи валяные сапоги, надела их на руки, выставила из-за занавески наружу и, неудержно смеясь, объявила:
— Театр! Выступает Анна-дурочка… Рассказ про любовь Ивана Шепеля, как он девку заморозил в мае месяце.
Дом наполнился жизнью. Аннушка слезла на пол и стала ходить босиком в ночной сорочке, потом стащила с кровати сестру.
— Театр! — объявила опять она. — Выступает толстопятый балет двух сестер!
Она стала выделывать разные па. Глядя на ее энергичное в своей веселости лицо и удивительно стройную фигуру, думалось, что это в первую очередь молодость, а потом театр!
Варежки
Зимним долгим вечером молодая женщина, будущая мать своего первого ребенка, не спеша кроит и шьет варежки своему мужу. Завтра ему в рощу ехать, за дровами.
Он сидит рядом, отогревается. За день в лесу так намерзся, что и в доме не снимает полушубка.
Сидя, он потихонечку журит жену:
— Шьешь ты, как мертвая.
Сказано обидное слово, а жена не сердится, потому что уж очень довольны глаза мужа, очень хорошо им обоим.
— Торопиться некуда, — философически спокойно отвечает мужу жена. — Зима еще будет долго стоять!
Примеривает варежку на его руку. А в лице такой покой, такой лад, такая уверенность, что в их жизни все будет хорошо!
Ромашка
Словно заяц-беляк, далеко в поле виднеется ромашка. Я подхожу к ней. Белоснежные лепестки. На корзине соцветий нет, как это бывает летом, ни блошек-лакомок, ни жучков, ни бабочек. Опрятный по-осеннему цвет.
Никто не подойдет, не сорвет, не погадает.
Людям в предзимье не до красоты и не до мечтаний.
Октябрь сдул листья, все торопятся утеплиться на зиму. Вон едет из лесу, сидя на дровах, молодой парень.
Воз дров ему пахнет сейчас лучше всяких цветов!
Приедет домой, порубит, сложит поленницу, затопит печку, и мечта пойдет уже не от ромашки, а от тепла и мерцающих жарких угольев.
Три сестры
У полевой дороги три березки, три сестры.
Пять лет хожу мимо и радуюсь, что никто не обломал их, не повредил. На таком людном месте только и жди беды, но какая-то невидимая рука отводит от сестричек невзгоды и горести.
Бывало, когда были поменьше, наметет на них снегу— одни маковки торчат. Но и снег-то не охальничал с ними, ни одной веточки не сгубил.
Этим летом около березок посеяли рожь. Был у них сговор между собой: стоило только малейшему ветерку дунуть — и рожь заволнуется, и березки зашумят.
Перейти бы березкам поле, ручеек, мост, и встали бы они у крыльца крайнего деревенского дома.
Березкам и так хорошо слышно, как вечерами девушки-колхозницы поют под гармонь свои частушки. Сколько бы частушек за вечер ни спели, обязательно про березку вспомнит. Родичи!
Вот они, полюбуйтесь: прямы, ветвисты, белоствольны.
Все три разделись догола, а на младшей каким-то чудом на самой маковке один листок уцелел! Что уцелел! Желтеть не хочет!
Захватит этот несмышленыш первого снега!
Пастух
На поле закованной морозом озими колхозное стадо. Ядреный, солнечный день. Припекает, но лед на речке глух к этому теплу, и ребятишки смело снуют на коньках, бесстрашно подъезжая к полыньям, у которых вместо надежной толщи льда тонкий ледок — «череп». Перехожу речку и подымаюсь на поле. Пастух, мужчина лет пятидесяти, плетет корзины. Тлеет костер, образуя синий дымок не более, чем он мог бы быть от одной сигареты. В стаде замычал бык.
— Когда бы ты, Василий Ерофеевич, знал, что к нам москвич пожаловал, ты бы поутишился! — сказал пастух.
Василий Ерофеевич задел правым рогом землю, сделал ссадину копытом и пошел, пошел от стада: он не был согласен с пастухом!
Пастух заплетал дно корзины. Прутья вились, гнулись под его руками, как ременные. Он все это приписал не своему уменью, а свойствам осеннего прутья. По свидетельству пастуха, осенний прут «гнуч».
На кусту бузины, под которой теплился костер, я увидел жалейку.
— Сыграйте!
— Не поймешь ты нашей музыки! — с добродушным сожалением заметил пастух и, снисходительно улыбнувшись, добавил: — От нашей музыки лесом пахнет! Разве только пастуху из «Марата» шумнуть.
Он взял жалейку и заиграл. В мелодии слышалось что- то дикое, тоскливое, первобытное.
За рекой на поле колхоза «Марат» поднялась высокая фигура пастуха. Дикие, тоскливые звуки полились и оттуда. Два человека долго объяснялись между собой.
— Ай, как душевно поговорили, — сказал «мой» пастух, закончив игру.
Он доплел корзинку, бросил ее под бузину и, как на счетах, отщелкал:
— Пять рублей заработал!
Одинокая женщина
Тяжело виснут свинцовые тучи.
По выцветшему от долгого ненастья жнивью, по пустому полю идет женщина с тяжелым обере́мком мокроватой соломы. Ветер то и дело пробует у нее ношу, но женщина не уступает ему. Разве только иногда удастся ему урвать одну соломинку.
На лице женщины глубокие борозды морщин, глаза потухли, нет радости.
Женщина все идет и идет по полю.
По всему угадывается, что она одинока. Где ее друг? Погиб на войне? Умер? Ушел к другой?
Кружат листья, кричат вороны, где-то заливается гончая.
Вот-вот пойдет снег.
А женщина все идет и идет по полю ровным шагом.
Трудно тебе живется, дорогая!
Клавин заказ
Всю весну Клава ходит в мелколесье за городьбой. Нарубит, свяжет оберемок — и на плечо. Топор за поясом, сама в телогрейке, на ногах со вкусом, аккуратно сшитые сапоги.
Огород Клаве некому починить, кроме как самой. Мать умерла, отец убит в Отечественную, четыре брата-красавца пали смертью храбрых там же, где и отец. Была сестра, да, выйдя замуж, уехала с мужем на Каму. Так-то вот судьба распорядилась, что оставила девушку с престарелой бабкой за хозяина и за хозяйку дома.