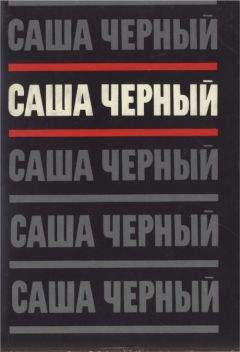Эмигрантское столпотворение перемешало народности, сословия, иерархии старой России. Чистых и нечистых. Сановников и простолюдинов. Тех, кто были верноподданы и законопослушны, и тех, кто встречал в штыки любые реформы, направленные на укрепление государственности. И даже тех, кто знаками одобрения встречал сообщения о террористических актах и с упоением выкликал: «Буря! Скоро грянет буря!» Вот и накликали. Теперь этот ковчег, представляющий скол России, влекло незнамо куда, все далее от родимого порога.
…Как-то мне довелось лицезреть необычное природное явление: плавучий остров. Изрядный кусок суши размером в несколько десятков метров медленно двигался вдоль волжских берегов. Словно видение, мираж — и в то же время достоверно реален и обозрим. На нем колыхались травы; над цветами, казавшимися ярче и привлекательней, нежели те, что росли под ногами, порхали как ни в чем не бывало бабочки. По-своему он был прекрасен, этот отторженец, унесенный бурей. Прекрасен, но обречен. Не суждено ему было прикрепиться к иным берегам. Разве что какие-то семена могли перелететь на материк и, пав на чужую почву, дать всходы среди непривычной флоры, вдали от родимого предела. Вот таким кочующим островом — прекрасным и обреченным — представляется мне эмигрантская Россия. Плыть ей и плыть…
«Куда ж нам плыть?» — над этим мучительным вопросом бились лучшие умы зарубежья. Ответы были разные. Так И. А. Бунин с непререкаемостью библейского пророка провозглашал: «Мы, как Ивиковы журавли, разлетелись по всему поднебесью, чтобы свидетельствовать против русских убийц, и у каждого из нас за пазухой гвоздь для советского гроба». Другие видели миссию русской эмиграции в сохранении духовных родников и национальных святынь, повторяя как девиз: «Мы не в изгнании, мы в послании». Ну а что оставалось безъязыковой эмигрантской массе, простым бедолагам — доживать свои скудные дни в борьбе за существование и сгинуть без следа в чужой земле? А может — чего уж там! — постараться поскорей отрешиться от прошлого, приспособиться к новым условиям, европеизироваться или американизироваться, найти свою житейскую нишу? Правота есть в каждом из этих путей. Да и возможен ли, право, однозначный ответ?
Но все же что объединяло это множество человеческих одиночеств, заброшенных волей судеб к черту на кулички? Ужели только борьба за выживание заставляла их держаться сообща? Должно быть, ближе других к уразумению смысла русской эмиграции подошел В. Набоков, сформулировав идеалы, под знаком которых жили изгнанные из России, так: презрение, верность и свобода. Это то, что укрепляло дух и жизнеспособность русского человека на чужбине. Если мы сегодня в отечестве своем, имея крышу над головой, с опаской вглядываемся в завтрашний день, то каково было им — без собственного крова, без средств к существованию, без гражданских прав, без знания языка, без навыков к какому-либо ремеслу, ибо в большинстве своем это были люди умственного труда. И тем не менее, они — герои Саши Черного, оказавшиеся на чужбине, — несмотря ни на что сохранили лучшие качества, которые отличали интеллигенцию, — нравственную чистоплотность, добропорядочность, совестливость, готовность искупить свои убеждения собственной судьбой.
Стоп! Помнится, в дореволюционных сатирах Саши Черного интеллигент был представлен в иных красках: «худосочный, жиденький и гадкий», «разрешитель проблем мировых»… Но противоречия здесь нет. Надо отличать зло в чистом виде (пошлость, глупость, хамство), которое Саша Черный именовал человеческим бурьяном, рухлядью людской, от недостатков обычного, среднего человека, который «то змей, то голубь — как повернуть». Если по молодости лет поэт-сатирик пытался «повернуть» — исправить нравы, выставляя пороки в кривом зеркале смеха, то испытания и опыт прожитых лет утвердили его в другой истинности: «мудрость жалости порой глубже мудрости гнева». Надо вовсе не изничтожать сатирой «малых сих», придавленных грузом забот и горестей, а помочь им.
Саша Черный не только уверовал в «мудрость жалости» как в некий общий жизненный принцип, но и следовал ему сугубо утилитарно. Надо помочь! Таков смысл многих его стихотворений, призывающих сделать пожертвования на детский приют или приглашающих соотечественников на писательский бал в пользу нуждающихся. Движимый чувством сострадания и любви, поэт никогда не отказывался от практической помощи всем страждущим. Об этом прекрасно сказал М. А. Осоргин: «Всегда, когда бывали сборы на бедных-безработных, на детей или благотворительные вечера, — в числе первых с воззванием выступал А. Черный, участвовал в организации разных такого рода дел и на эстраде выступал не раз. И по личной доброте, и по личному пониманию, что такое нужда, и, конечно, ради единственного радостного удовлетворения, — что вот можно, ничего как будто не имея, дать больше, чем дает имеющий».
Ясно, что этим стихотворным однодневкам, имеющим чисто прикладной характер, суждено было кануть в Лету. Сколько времени и сил поэта ушло на эту черновую работу в ущерб свободному вдохновению! Но недаром любители поэзии втайне уверены, что поэт и в жизни должен походить на свои стихи. Саша Черный, всем своим творчеством исповедующий любовь и добро, не мог быть иным в реальной жизни, в своей земной юдоли.
Думается мне, что подавляющая часть созданного поэтом за годы изгнания носит подвижнический характер. Перед ним, как и перед большинством его собратьев по перу, оказавшихся за границей, возник вопрос: о чем писать и во имя чего? Абстрагироваться ли от горестной и темной действительности, от трагедии русского бездорожья и направить свою творческую фантазию в бесконечность пространств и времен? Избравших эту стезю было немало.
Выбор Саши Черного содержится в его же вопросе, заданном им в одном из писем: «О чем писал бы сейчас Чехов, если бы жил с нами в эмиграции?» Неспроста из всего пантеона отечественной литературы выбран Чехов — писатель, повествовавший о повседневности, об обычной людской мелкоте, обо всех сирых и обездоленных, бредущих во мраке безысходности. Однако, следуя его заветам, надо было не упиваться общей бедой, а, напротив, постараться поднять дух читателя, заставить его улыбнуться, обнаружив в самой безвыходной ситуации комическое. Безоглядного веселья, конечно, ждать не приходится. В любой усмешке позднего Саши Черного слышатся меланхолические, даже щемящие нотки. Почему?
Потому что только старка
С каждым годом все душистей,
Все забористей и крепче,—
А Цирцеи и поэты…
Вы видали куст сирени
В средних числах ноября?
Подобно неким столпам в эмигрантском наследии Саши Черного возвышаются две поэмы, как бы определяющие круг тем и устремлений поэта в зарубежье: «Дом над Великой» — о прошлом и «Кому в эмиграции жить хорошо» — о настоящем.
В поэме «Дом над Великой» нет пронзительной тоски и боли первых лет изгнания. Любовно и с тщанием поэт фрагмент за фрагментом воссоздает в слове затонувшую «русскую Атлантиду»:
Любой пустяк из прежних дней
Так ненасытно мил и чуден…
Вспомните! Вы помните? — словно рефрен, звучит этот то ли призыв, то ли вопрос. Так ли уж важны бытовые подробности и детали? Зачем цепляться, будто за соломинку, за никчемный сор бытия?
Быт, обиход — это данность, это нечто само собой разумеющееся. Его не замечают, не ценят, как воздух, о котором вспоминают только тогда, когда его не хватает. В сущности, все, что приносит нам удобство, удовольствие, радость, — это и есть жизнь, ее плоть, ее естество, сама фактура. А политические страсти, словесная война, на что тратится столько души и нервов, необходимы лишь затем, чтобы утвердить нормальную жизнь, воплощенную в устойчивом и бесконечно разнообразном укладе. Вот почему Саша Черный не уставал извлекать из своей образной памяти и развертывать перед читателями «русские миражи», чтобы не забывали «о чудесной, великой стране, в которой мы когда-то жили».
В поэзии русского зарубежья Саша Черный едва ли не единственный, кто взял на себя роль певца и бытописателя «эмигрантского уезда», если, конечно, не считать бойкие перья газетных «злобистов», обычно не идущие в общелитературный счет. Собственно говоря, писательская аристократия и Сашу Черного числила среди подзаборной, шутейной братии. «Стихотворцев-фельетонистов Лоло и Сашу Черного нельзя печатать в „Современных записках“, — обронила в своих мемуарах Н. Берберова. Впрочем, Саша Черный никогда и не стремился в престижные издания, понимая, что самый короткий путь к массовой читательской аудитории — через газету. Вероятно, поэтому все последние годы поэт печатался почти исключительно на страницах „Последних новостей“ — самой распространенной и популярной газеты русской эмиграции.