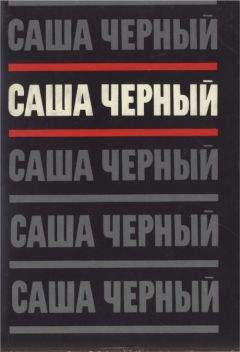В поэзии русского зарубежья Саша Черный едва ли не единственный, кто взял на себя роль певца и бытописателя «эмигрантского уезда», если, конечно, не считать бойкие перья газетных «злобистов», обычно не идущие в общелитературный счет. Собственно говоря, писательская аристократия и Сашу Черного числила среди подзаборной, шутейной братии. «Стихотворцев-фельетонистов Лоло и Сашу Черного нельзя печатать в „Современных записках“, — обронила в своих мемуарах Н. Берберова. Впрочем, Саша Черный никогда и не стремился в престижные издания, понимая, что самый короткий путь к массовой читательской аудитории — через газету. Вероятно, поэтому все последние годы поэт печатался почти исключительно на страницах „Последних новостей“ — самой распространенной и популярной газеты русской эмиграции.
Именно здесь Саша Черный опубликовал поэму „Кому в эмиграции жить хорошо“, завершенную незадолго до его кончины. Поэт будто торопился исполнить некий высший долг или предназначение (хотя сам он, разумеется, никогда не выражался столь высокопарно). Кто-то должен был в нашей поэзии эмиграции оставить целостную, масштабную картину уникального явления, о котором В. Набоков писал: „Мы — волна России, вышедшая из берегов, мы разлились по всему миру, — но наши скитания не всегда бывают унылы, и мужественная тоска по родине не всегда мешает нам насладиться чужой страной, изощренным одиночеством в чужую электрическую ночь на мосту, на площади, на вокзале. И хотя нам сейчас ясно, сколь разны мы, и хотя нам кажется иногда, что блуждают по миру не одна, а тысяча тысяч Россий, подчас убогих и злобных, подчас враждующих между собой, — есть, однако, что-то связующее нас, какое-то общее стремление, общий дух, который поймет и оценит будущий историк“.
Тема, что называется, носилась в воздухе. Пройтись с некрасовским вопросом по различным кругам эмиграции попытался еще в 1924 году поэт Евг. Тарусский. Правда, его попытка ограничилась всего несколькими главами, помещенными в парижской газете „Вечернее время“. Фарсовая тема дореволюционной юмористики „Наши в Европе“ обернулась ныне трагедией. Вернее сказать, трагикомедией, поскольку в беженском быту невзгоды, горести и мороки перемежались с улыбками и гримасами.
Поэма Саши Черного „Кому в эмиграции жить хорошо“ представляет собой поистине энциклопедию „русского Парижа“ и его окрестностей. Иногда действие переносится в Италию, Африку, на корабль в Индийском океане. Куда только судьба не заносила россиян! Какая разноликая и густонаселенная картина нарисована Сашей Черным! Если обратиться к живописным аналогиям, ее можно уподобить полотнам Брейгеля, где каждая фигура, каждая деталь самоценны. Но в целом разобщенные эпизоды образуют некое композиционное единство, как бы символизирующее многообразие и непрерывность жизни. Причем не оставляет чувство, что многое осталось за рамой — за пределами поэмы.
Герои ее — это знакомые нам по чеховской прозе приват-доценты, курсистки, учителя прогимназий, агрономы, адвокаты, но перенесенные в иноземную обстановку и вынужденные переквалифицироваться в маляров, гадалок, массажисток, книжных коробейников, пансионодержателей… Дела их по преимуществу идут не ахти как хорошо — рискованные предприятия обычно терпят фиаско. Но каким-то чудом они все равно остаются на плаву, не теряют присутствия духа и чувства юмора.
С годами все определенней пристрастие Саши Черного к ординарным, ничем не примечательным людям, где красками не возьмешь, где серые тона могут быть расцвечены только тогда, когда поэт проникает в душу маленького человека. Саша Черный заставляет нас любоваться своими обыденными персонажами. Недаром он вопрошал с некой даже запальчивостью: „Разве тот, кто любит до конца природу, отвергнет крапиву, потому что роза, лучше“?» Он как бы преднамеренно идет на самоограничения: имена и фамилии, встречающиеся в его стихах и прозе, стерто-непримечательные — Иван Петрович, Лидия Павловна и т. п. Да что там далеко ходить — главные персонажи поэмы, шествующие по всем ее главам в поисках счастливцев: «чернильные закройщики, три журналиста старые — Козлов, Попов и Львов». Именно любовь к простым русским людям позволила автору обнаружить в смешении национальных обычаев, в суете европейских буден, в тщете и ущербности существования эмигрантов жизнеутверждающее начало и некий проблеск надежды. Надежды — быть может, иллюзорной и напрасной — на подрастающее поколение, на «маленький народ, не знающий России». Прежде всего для него считает нужным писать Саша Черный. Он хлопочет об издании русских классиков, отобранных им в расчете на маленьких читателей, затевает альманахи «Молодая Россия» и «Русская земля», которые знакомили бы детей эмиграции «с далекой, никогда не виданной, лежащей за тридевять земель родиной». Видимо, лелеял он надежду, что его маленькие друзья вернутся на землю отцов («Когда-нибудь в России ты вспомнишь обо мне»). И надо ли удивляться тому, что в финале поэмы, после хождений по всем кругам «русского Парижа», найден «единственный, без примеси, счастливый эмигрант» — младенец по имени Мишка, «румяный отпрыск Наденькин, беззубый колобок»…
Нам остается перевернуть последнюю страницу эмигрантской эпопеи Саши Черного — самую светлую и самую печальную. Мы начали с того, что полное освобождение поэт испытывал только в единении с природой. Все эти годы он мечтал сменить городскую оседлость, поселиться где-нибудь в мирной и живописной глуши. Удивительно, но на склоне лет его надеждам почти суждено было исполниться. Приобретен был клочок земли близ Средиземного моря, в Ла Фавьере, где обосновалась колония русских эмигрантов (художников, ученых, общественных деятелей). Вскоре на холме, откуда открывался чудесный вид на море и долину, вырос домик, ставший последними пенатами поэта. Здесь поэт мог наконец предаться простым земным отдохновениям и трудам в окружении близких и симпатичных ему людей. Когда-то, давным-давно, еще в России Саша Черный в стихотворном цикле «Мои желания» признался в самом затаенном и казавшемся несбыточным:
Жить на вершине голой,
Писать простые сонеты…
Сбылось: почтовыми путями полетели отсюда в Париж, на газетную полосу, стихи из «Летней тетради», напоенные звоном цикад, шумом прибоя и солнечным зноем. Но этот полет, как выстрелом, был оборван внезапной смертью поэта. Так получилось, что в номере с траурной рамкой опубликовано стихотворение «С холма», ставшее, как бы в подтверждение своего названия, вершинным достижением поэта. Оно представляется своеобразным «памятником», имевшим сугубо прикладной, земной и одновременно запредельный характер — что так похоже на музу Саши Черного. Это… скамейка, которую на вершине холма смастерил сам поэт:
В дар любому пилигриму,
Чтоб присел, забыв земное,
И, попыхивая трубкой,
Всласть смотрел, как парус в море
Дышит гоголем над шлюпкой…
Сколько сказано о высокой простоте, к которой приходят истинные поэты в конце пути. Видимо, это действительно так. По крайней мере судьба Саши Черного — тому подтверждение: словно само Провидение вело поэта. Когда-то, на взлете славы, он отказался от всего, что так нравилось публике, — от яркой образности и эксцентричности стиха. Правда, одного волевого решения, как видно, было недостаточно — нужно было еще пройти через горнило потерь, страданий, изгнания, чтобы в конце концов обрести ту моцартианскую легкость, которой ведома вся сложность и трагичность жизни. Талант его не потерпел ущерба от тяжести лет. Напротив — приобрел прозрачную отстоенность мудрости и просветленную оптику поэтического видения: отсюда, с вершины, «вдруг стало видимо во все концы света», любо с мудрой и снисходительной улыбкой созерцать человеческую комедию. И еще: какая-то грустная прощальность чудится в этой улыбке, в угасании последней строки, оборванной как бы на полуфразе…
* * *
Несколько слов о кончине поэта. Произошло это 5 августа 1932 года. Саша Черный помогал тушить лесной пожар (что было не редкостью в Провансе в жаркую пору). Усталый и взволнованный, он после этого еще трудился на своем участке — на самом солнцепеке, не прикрыв голову неизменной шляпой-канотье. Соседские ребята заметили, что он упал, внесли его в дом, где Александр Михайлович скончался до прибытия доктора. Тихо отошел он в ту страну, откуда никто не возвращается. Так неожиданно оборвалась жизнь, с которой было связано еще столько надежд и чаяний.
Эта трагическая развязка как бы предсказана еще на заре века Андреем Белым. Ему был ведом удел поэта-солнцепоклонника.
Золотому блеску верил,
А умер от солнечных стрел.
Хоронили Сашу Черного всем поселком — русские, дети и взрослые, и местные фермеры-французы, с которыми он был дружен. Всеми, кто близко был знаком с поэтом и кто знал его только по книгам, эта утрата была воспринята как личное горе.