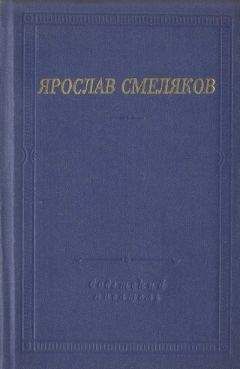149. РЕЧЬ ФИДЕЛЯ КАСТРО В НЬЮ-ЙОРКЕ
Зароптал
и захлопал восторженно
зал —
это с дальнего кресла
медлительно встал
и к трибуне пошел —
казуистам на страх —
вождь кубинцев
в солдатских своих башмаках.
Пусть проборам и усикам
та борода
ужасающей кажется —
что за беда?
Ни для сладеньких фраз,
ни для тонких острот
не годится
охрипший ораторский рот.
Непривычны
для их респектабельных мест
твой внушительный рост
и решающий жест.
А зачем их жалеть,
для чего их беречь?
Пусть послушают
эту нелегкую речь.
С ними прямо и грубо —
так время велит —
Революция Кубы
сама говорит.
На таком же подъеме,
таким языком
разговаривал некогда
наш Совнарком.
И теперь,
если надо друзей защитить,
мы умеем
таким языком говорить.
И теперь,
если надо врагов покарать,
мы умеем
такие же речи держать.
1960
150. ПИСЬМО К ДРУГУ-СТИХОТВОРЦУ
Меж неземной и средь житейской
толпы поэтов небольшой
мы — плебс. И вкус у нас плебейский,
а не какой-нибудь иной.
Но плебс совсем другого рода,
а не такого, не того,
что, тщась шагать в главе народа,
плетется сам в хвосте его.
Для песенок с пошибом старым
не брали мы со стороны
ни семиструнную гитару,
ни балалайку в три струны.
И в небольшом фабричном зале
средь чтения своих страниц
чечеткой, сдуру, не прельщали
ряды смеющихся девиц.
…Мы с теми даже вроде дружим,
но сами вовсе не из тех,
кому — до боли сердца — нужен
любой, но все-таки успех.
Мы не из тех, кто молодежи
строчит намеки да интим.
Мы сами это делать можем,
да не желаем. Не хотим.
Мы не хотим, чтоб нам вдогонку —
оценка та совсем не впрок:
«Ах, как он мил! Какой он тонкий!» —
звучал прелестный голосок.
Но это только отрицанье.
А вдруг достойные умы
нас спросят: «Ну а что вы сами?»
Действительно — что сами? Мы?
Вдыхая жадно воздух здешний,
с тобою вместе мы вдвоем
без фейерверка, непоспешно,
хоть время к вечеру, идем.
Мы отвергаем за работой —
не только я, не только ты —
красивости или красоты
для социальной красоты.
Мы добываем, торжествуя
и глядя времени в лицо,
не «мо», не хохму продувную,
а просто красное словцо.
Да, то словцо и то словечко,
произнесенное в упор,
что как истопленная печка
или в зазубринах топор.
1960
Я не о тех золотоглавых
певцах отеческой земли,
что пили всласть из чаши славы
и в антологии вошли.
И не о тех полузаметных
свидетелях прошедших лет,
что всё же на листах газетных
оставили свой слабый след.
Хочу сказать, хотя бы сжато,
о тех, что, тщанью вопреки,
так и ушли, не напечатав
одной-единственной строки.
В поселках и на полустанках
они — средь шумной толчеи —
писали на служебных бланках
стихотворения свои.
Над ученической тетрадкой,
в желанье славы и добра,
вздыхая горестно и сладко,
они сидели до утра.
Неясных замыслов величье
их души собственные жгло,
но сквозь затор косноязычья
пробиться к людям не могло.
Поэмы, сложенные в спешке,
читали с пафосом они
под полускрытые усмешки
их сослуживцев и родни.
Ах, сколько их прошло по свету
от тех до нынешних времен,
таких неузнанных поэтов
и нерасслышанных имен!
Всех бедных братьев, что к потомкам
не проложили торный путь,
считаю долгом пусть негромко,
но благодарно помянуть.
Ведь музы Пушкина и Блока,
найдя подвал или чердак,
их посещали ненароком,
к ним забегали просто так.
Их лбов таинственно касались,
дарили две минуты им
и, улыбнувшись, возвращались
назад, к властителям своим.
1960
Из тьмы забвенья воскрешенный,
ты снова встретился со мной,
пудовой гирею крещенный,
ширококостый и хмельной.
Не изощренный томный барин —
деревни и заставы сын,
лицом и глазками татарин,
а по ухватке славянин.
Веселый друг и сильный малый,
а не жантильный вертопрах,
приземистый, короткопалый,
в каких-то шрамах и буграх.
То — буйный, то — смиренно-кроткий,
то — предающийся греху,
в расстегнутой косоворотке,
в боярской шубе на меху.
Ты чужд был залам и салонам,
так, как чужды наверняка
диванам мягкого вагона
кушак и шапка ямщика.
И песни были!.. Что за песни!
Ты их записывал пером,
вольготно сидя, как наездник,
а не как писарь за столом.
А вечером, простившись с музой,
шагал, куда печаль влекла,
и целый час трещали лузы
у биллиардного стола.
Случалось мне с тобою рядом
бродить до ранней синевы
вдоль по проспектам Ленинграда,
по переулочкам Москвы.
И я считал большою честью,
да и теперь считать готов,
что брат старшой со мною вместе
гулял до утренних гудков.
Всё это внешние приметы,
быть может, резкие — прости.
Я б в душу самую поэта
хотел читателя ввести.
Но это вряд ли мне по силам,
да и нужды особой нет,
раз ты опять запел, Корнилов,
наш сотоварищ и поэт.
1960
Уже в Истории все даты,
какие та дала война,
а для саперного солдата
еще не кончилась она.
То вдалеке, то чуть не рядом,
а то совсем под боком, тут,
они немецкие снаряды
из подземелий достают.
И бережно, дыша помалу,
с нерасторопностью своей
несут их утром к самосвалу,
как носят бомбы и детей.
Мы оценить их подвиг тяжкий
по справедливости должны.
Снимайте шляпы и фуражки
перед саперами страны.
1961
Из всей земли исполинской
взаправду, а не рисуясь,
Америкою Латинской
всё больше интересуюсь.
Журналы всю ночь листая,
вычитывая газеты,
старательно собираю
подробности и приметы.
С мальчишеским прилежаньем,
с монашеской верой в чудо
далекие очертанья
рассматриваю отсюда.
При свете настольной лампы
ты кажешься очень странной,
чужая ночная пампа,
таинственная саванна.
Но вот я узнал впервые,
что там по границам вспашки
растут, как у нас в России,
подсолнечник и ромашки.
Мне выразить это трудно,
но есть у земли желанье,
чтоб сблизились обоюдно
гражданские расстоянья.
Поэтому эти строки
тебе посвящаю смело,
рязанский цветок далекий,
ромашка Венесуэлы.
1961
155. КУБИНСКОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ
Средь плантаций и нив
весела гуахира,
в этот день получив
ключ от новой квартиры.
Растерявшись, стоит,
на глазах хорошея,
и блистает-блестит
светлый ключик на шее.
Не таскать же в руке
тот подарок артельный —
пусть висит на шнурке,
словно крестик нательный.
Хватит спать на полах,
по каморкам тесниться,
копошиться в углах,
на задворках ютиться!
Не пришлось мне бывать
там, где правили янки,
но пришлось повидать
чердаки и землянки.
Он повсюду таков
и везде одинаков,
нищий быт батраков
и ночлежных бараков.
Обозлясь в тесноте,
мы отчаянно сами
все клоповники те
сокрушили ломами.
Мы развеяли стиль
чердака и подвала.
Только мелкая пыль,
постояв, оседала.
И умом и душой
принимаю сугубо
этот ключ небольшой —
символ нынешней Кубы.
Будто месяц из туч,
тускло смазанный жиром,
серебрящийся ключ
от отдельной квартиры.
1961