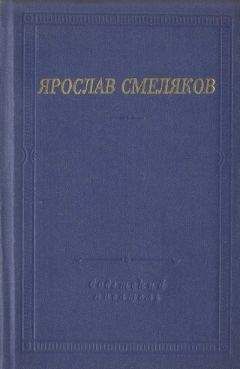154. РОМАШКА
Из всей земли исполинской
взаправду, а не рисуясь,
Америкою Латинской
всё больше интересуюсь.
Журналы всю ночь листая,
вычитывая газеты,
старательно собираю
подробности и приметы.
С мальчишеским прилежаньем,
с монашеской верой в чудо
далекие очертанья
рассматриваю отсюда.
При свете настольной лампы
ты кажешься очень странной,
чужая ночная пампа,
таинственная саванна.
Но вот я узнал впервые,
что там по границам вспашки
растут, как у нас в России,
подсолнечник и ромашки.
Мне выразить это трудно,
но есть у земли желанье,
чтоб сблизились обоюдно
гражданские расстоянья.
Поэтому эти строки
тебе посвящаю смело,
рязанский цветок далекий,
ромашка Венесуэлы.
1961
155. КУБИНСКОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ
Средь плантаций и нив
весела гуахира,
в этот день получив
ключ от новой квартиры.
Растерявшись, стоит,
на глазах хорошея,
и блистает-блестит
светлый ключик на шее.
Не таскать же в руке
тот подарок артельный —
пусть висит на шнурке,
словно крестик нательный.
Хватит спать на полах,
по каморкам тесниться,
копошиться в углах,
на задворках ютиться!
Не пришлось мне бывать
там, где правили янки,
но пришлось повидать
чердаки и землянки.
Он повсюду таков
и везде одинаков,
нищий быт батраков
и ночлежных бараков.
Обозлясь в тесноте,
мы отчаянно сами
все клоповники те
сокрушили ломами.
Мы развеяли стиль
чердака и подвала.
Только мелкая пыль,
постояв, оседала.
И умом и душой
принимаю сугубо
этот ключ небольшой —
символ нынешней Кубы.
Будто месяц из туч,
тускло смазанный жиром,
серебрящийся ключ
от отдельной квартиры.
1961
Внезапно кончив путь короткий
(винить за это их нельзя),
с земли уходят одногодки:
полузнакомые, друзья.
И я на грустной той дороге,
судьбу предчувствуя свою,
подписываю некрологи,
у гроба красного стою.
И, как ведется, по старинке,
когда за окнами темно,
справляя шумные поминки,
пью вместе с вдовами вино.
Но в окруженье слез и шума,
средь тех, кто жадно хочет жить,
мне не уйти от гордой думы,
ничем ее не заглушить.
Вы не исчезли, словно тени,
и не истаяли, как дым,
все рядовые поколенья,
что называю я своим.
Вы пронеслись объединенно,
оставив длинный светлый след, —
боюсь красот! — как миллионы
мобилизованных комет.
Но восхваления такие
чужды и вовсе не нужны
начальникам цехов России,
политработникам страны.
Не прививалось преклоненье,
всегда претил кадильный дым
тебе, большое поколенье,
к какому мы принадлежим.
В скрижали родины Советов
врубило, как зубилом, ты
свой идеал, свои приметы,
свои духовные черты.
И их не только наши дети,
а люди разных стран земли
уже почти по всей планете,
как в половодье, понесли.
1961
В посольствах, на фабриках, в клубах,
набитых народом сполна,
открыто братается с Кубой
огромная наша страна.
Пускай же о митингах этих,
что длятся почти до утра,
печатают сводки в газете,
вещают вовсю рупора.
Не то чтоб тайком и украдкой,
а так, чтоб видал бизнесмен,
кладем ее сахар внакладку
и нефть отправляем взамен.
И в маленьких клубах предместий,
пока на трибуне доклад,
с ушанками русскими вместе
береты кубинцев лежат.
Россия братается с Кубой,
даря ей величье свое,
и прямо в солдатские губы
заздравно целует ее.
1961
Когда-нибудь, пускай предвзято,
обязан будет вспомнить свет
всех вас, рязанские Мараты
далеких дней, двадцатых лет.
Вы жили истинно и смело
под стук литавр и треск пальбы,
когда стихала и кипела
похлебка классовой борьбы.
Узнав о гибели селькора
иль об убийстве избача,
хватали вы в ночную пору
тулуп и кружку первача
и — с ходу — уезжали сами
туда, с наганами в руках.
Ох, эти розвальни и сани
без колокольчика, впотьмах!
Не потаенно, не келейно —
на клубной сцене, прямо тут,
при свете лампы трехлинейной
вершились следствие и суд.
Не раз, не раз за эти годы —
на свете нет тяжельше дел! —
людей, от имени народа,
вы посылали на расстрел.
Вы с беспощадностью предельной
ломали жизнь на новый лад
в краю ячеек и молелен,
средь бескорыстья и растрат.
Не колебались вы нимало.
За ваши подвиги страна
вам — равной мерой — выдавала
выговора и ордена.
И гибли вы не в серной ванне,
не от надушенной руки.
Крещенской ночью в черной бане
вас убивали кулаки.
Вы ныне спите величаво,
уйдя от санкций и забот,
и гул забвения и славы
над вашим кладбищем плывет.
1961
Вернулся в свой город советский
товарищ из той стороны,
куда наши души по-детски
направлены, обращены.
Из той возвратился он дали,
сошел из того далека,
куда так нечасто летали
посланцы России пока.
Он стал как бы выше и шире
и даже красивше, чем был:
не зря в удивительном мире
наш давний товарищ гостил.
Как будто за эту неделю —
средь митингов, пашен и скал —
он всё обаянье Фиделя,
всю ту атмосферу впитал.
Наверное, так за границей
рабочие люди глядят,
когда из советской столицы
воротится их делегат.
Он прежний и вроде не прежний,
и братья посланца того,
как мы, изумленно и нежно
все вместе глядят на него.
1961
К нам несут провода
дальний гул революций.
Мы не лезем туда,
там без нас обойдутся.
Но, однако, не прочь —
русской полною мерой —
пропагандой помочь,
поделиться примером.
Всей земле трудовой,
от пустынь до Европы,
посылаем мы свой
исторический опыт.
Страны южной жары,
знают Куба и Чили,
на кого топоры
наши деды точили.
Средь светящейся тьмы
вдоль Руси деревянной
сотрясались холмы,
словно ваши вулканы.
Не у волжских высот,
не в родимой сторонке —
Стенька Разин плывет
по реке Амазонке.
1961
По главной площади Гвинеи
под рев толпы и бубнов стук,
от наслаждения немея,
несли два черных парня плуг.
Был в плуге этом смысл немалый,
его, до болтика, сполна,
сама, ликуя, отковала
в народной кузнице страна.
Он первым был. И плыл впервые
средь восклицаний и знамен —
мальчишка мирной индустрии,
предтеча будущих времен.
Вся площадь пела и теснилась,
ей показалось неспроста,
что в небе, вслед за ним, струилась
семян и света борозда.
Нисколько я не умаляю
других событий и заслуг,
но душу просто умиляет
освобожденья первый плуг.
Мне представляется всё чаще,
всё больше ум волнует мой
тот плуг, на крылышках
летящий над африканскою землей.
1961
162. ПОД ФОНАРЕМ НА ПЕРЕКРЕСТКЕ