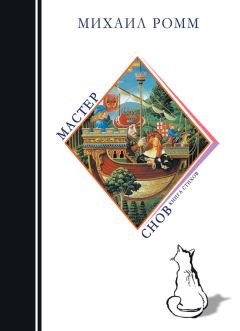Развратничать и злиться до икоты,
Заболевать то гриппом, то ангиной,
Чтоб грязной и забывчивой зимой
Вдруг умереть от скисшего компота,
И этим сильно поразить кого-то.
6
Цвет гроба. Музыка. Цветы. Автобус.
Где хоронить, и куплен ли венок?
Блины, салями, как у прочих чтобы…
Как будто бы ему не всё равно!
Но в день один вмещаются все зимы,
И все шумы в чуть слышный снега скрип.
Сменяется картинок пантомима:
Метро, деревья, улицы изгиб.
Укутываясь в ночь неуловимо,
Снег посинел, и под случайным взглядом
Ожил слепой фонарь, стоящий рядом.
7
И вслед за ним по улице по всей
Затеплились и нехотя зажглись…
Так встретил, возвращаясь, Алексей,
Привычный свет привычных фонарей
И площади заснеженную жизнь.
В сугробе, задевая край куста,
Прожектор освещает дом культуры,
С избытком колоннады и скульптуры.
И был бы вовсе храм, но без креста,
Да небо, вознесённое над ним,
Невольно его делает смешным.
8
А между тем был день, был день,
Огромный класс художественной школы,
Где сладко спит на гипсах светотень;
И первый шаг на первую ступень
По лестнице, испуганно-веселый.
Окно открыто, тихий голос чей-то,
Какой-то умной книги пересказ,
А за стеною музыкальный класс,
И свист неутомимимо юной флейты
Влетает к нам, где на рисунках свет,
И подоконник солнышком согрет.
9
Да, умер, но ещё как будто близко,
Как будто где-то рядом…
Бедный дядя… Был день.
Они стояли перед списком
Зачисленных, ища, тревожно глядя…
Почти отец… И проверял тетради…
И Пикассо не понял. Что ж? Фрагмент?
Обычного существованья малость,
Одна из миллионов кинолент,
Которая лишь в памяти осталась?
И память гаснет. Грустно пьют абсент
«Любители абсента». Эка жалость!
10
А в памяти война. И стук колес,
И ужас радио, и беспризорный ветер,
Что нес в Москву, и соль голодных слёз…
Мальчишка одногодков перерос
И уважения к себе добился этим.
Раскроен суетящийся вокзальчик,
Где выбор направлений безразличен.
Тут, чтоб не воровать, еврейский мальчик
Делил по справедливости добычу.
Всё улеглось. Жизнь в колею вступила…
Молчишь о чём-то, но ведь это было…
11
Но я о школе начал говорить.
Теперь, когда до взрослого я вырос,
Я мог бы, как и многое, забыть
То место, где моей дороги нить
И Алексея воедино слились.
Куда ходили мы по вечерам,
В неделю по три раза, рисовать,
Но слишком счастлив, видно, был я там,
И на моей душе лежит печать
Тех давних разговоров и веселья,
И бесконечно я обязан сам
Бумаге, умерщвлённой акварелью.
12
Воспоминания мои, как пыль,
Сверкающая в солнечном луче…
Рембрандт, библиотека, и не ты ль
Автопортрет рисуешь при свече?
Нескладный май, цепляясь за углы,
Идёт по комнате и бредит о Платоне,
И говорить торопится – услышь…
Взмахнёт рукой и что-нибудь уронит.
И кажется, что он один из нас,
Ворвался сквозь окно, чтоб тоже спорить;
Tот гениальный май, сумевший нас
С действительностью навсегда поссорить.
13
А к вечеру прозрачная луна,
Как ломтик сыра, тоненький и ломкий,
Была значенья тайного полна,
Когда ты шел по тротуара кромке,
Цветение вдыхая – юный бог…
В те дни… «..когда в садах лицея
Я беззаботно процветал…» – и мог,
«Для выясненья личности» скорее,
Чем кто-нибудь, в милицию попасть.
И был я не умнее Алексея,
И думал, улыбаясь: «Сам я власть».
14
Над головою звёздные булавки,
С усилием прокалывали твердь,
Он, наконец, опомнился. На лавке,
Должно быть, стало холодно сидеть.
Трамвай прозвякал мимо, в нём, как рыбки
В светящемся аквариуме, люди…
И вдруг, прорезав небо слабой грудью,
Причислив себя к звёздам по ошибке,
Скатился метеор по сини липкой.
И снова неподвижен звезд узор,
И думаешь: «Упал ли метеор?»
15
В Измайлово, у книжного, есть дом
Между аптекой и комиссионкой.
Вполне возможно, скучно будет в нём
В Москву Булгакова и Пушкина влюблённым.
Его «хрущёвским» метко назовет
Несклонный к сантиментам человек.
А я сказал бы – это звездолёт
Из кирпича, что погребен навек
Зимой нездешней меж актиний голых
Во льду инопланетного атолла.
Казался он необитаем днём,
Но к ночи загорались окна в нём.
16
Живой компьютер, в память астронавта
Погибшего, считал веками дни,
Стараясь продержаться лишь до завтра
И продержать сигнальные огни.
На лестничной площадке зажигали
Все лампы, кроме лопнувших уже:
Жильцы их неохотно заменяли,
Увы, ведь человек не идеален.
Жил Алексей на пятом этаже
Вышеописанного мною зданья:
Антенны, облака и ожиданья.
17
Порой он представлял себе, что в башне
Немыслимой какой-то высоты
По лестнице день этот и вчерашний
Он поднимается, и выйдет у черты,
Где так высоко, что… так, что… так…
Или Он представлял: у двери наверху
Вдруг нечто необычное случится…
А там мальчишки на стене чертили,
Или, нахохлившись, клевал труху
Наполеоно-цезарь – голубица, —
Косящий взглядом злым. Так Алексей
Лишь до квартиры доходил своей.
18
Сквозь коридор, как через подсознанье,
Вот двадцать метров комнаты (плюс кухня).
Повсюду книги, даже на диване,
Где мозг студента регулярно пухнет
В преддверии грядущего зачёта,
Себя пытаясь знаньем начинить,
Запомнить дат и диаграмм до чёрта,
Чтобы назавтра сдать и позабыть.
Пробулькает санузел совмещённый,
Закашляется, протекая, кран.
Протянешь руку к тьме развоплощённой,
И щёлкнет выключателя капкан.
19
Чуть позже, как обычно, сядет он
За стол, давно не видевший порядка,
И в голове пройдет, заворожён,
Необычайно сложный строй колонн…
Неясный новый мир, играя в прятки
С реальностью, возникнув, растворится
И переплавится в изгибы плеч.
И будет душу собственную влечь
Египетская древняя царица.
Узора алебастровая речь
По трону тонким кантом заструится.
20
Знакомый очерк приоткрытых губ
В сознанье, как на стереоэкране…
Прекрасный облик так далёк и странен,
Как мощная пугающая глубь,
Живущая в умолкнувшем органе,
Так только что погасший уголёк,
Хранит в себе свечения намёк,
Хотя его уже не различаешь,
Идёшь к нему и место то теряешь,
Где только что он тихо угасал,
И, кажется, что это ты пропал.
21
А в пропасти свирепствует капель
Центрально-отопительной системы.
И сколько не кричи: «Любовь – поэма!»,
А слышится опять: «Любовь – постель!».
Представьте молодого человека,
Который себе пары не нашел:
Его томит несовершенство века.
На что не взглянет – всё нехорошо.
И тут, в том доме, где внизу аптека,
В окне напротив, грянет рок-н-ролл.
Звук будет биться, нагл и беспечен,
И как-то заниматься станет нечем.
22
Он подойдёт к балконному стеклу,
Нагнётся, прислонясь горячим лбом,
И долго будет, напрягая слух,
Улавливать веселье за окном.
И вдруг ему захочется рыдать
От ясного сознания пропажи
И явной безысходности пути.
Разденется, и в лунную кровать
На простыне холодной ляжет.
Каникулы. И завтра не идти…
23
Луна в окно таращится рябая.
Проходит час, за ним идет другой.
Сон не приходит, словно избегая
Его коснуться ласковой рукой.
Всё реже блики мертвенного света
От проезжающих внизу машин
На потолок кидают тень предметов.
Сон не приходит. Он лежит один,
Ворочается в душном одеяле,
И дом не спит, какой же шумный он,
Как будто ты улёгся на вокзале.
Стучат секунды, как набатный звон,
А мой герой заснул и видит сон:
24
Вот он бредёт нависшим коридором,
Выходит снова в сумеречный двор,
И вязнет в гуттаперчевом просторе,
Где две вороны медленные спорят…
Беседка старая, поломанный забор,
Песочница, облезлые качели.
И понимает – этот двор тупик,
Кусты рябины, чахнущая зелень.
И в сумраке, как истеричный крик,
Застывший, и поэтому неслышный,
Пылает огонёк неспелой вишни.
25
В беседке собирается туман,
Волной плывёт невнятный запах мяты,
Где человек и девушка-тюльпан
Остекленело смотрят в сумрак мятый,
И начинают головой качать,
И в такт плащей качаются заплаты,
И волосы, и вот их не узнать.
Они зовут, зовут: за нами следом
В ту лаву-синеву, за нами вслед
Укутайся туманом, точно пледом,
И отодвинь пугающий рассвет.
26
Ты, дымный аромат, нас укрывающий,
Шуршанье в пальцах горьких сигарет,
Продлите час несбывшихся бесед.
Продлись, прекрасный бред испепеляющий!
Нет Жизни лучше Смерти, право, нет: