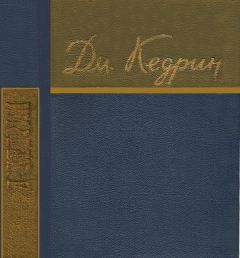1932
...и заявлению
о вступлении в ряды ВЛКСМ
Когда зачитают анкету до края,
я встану спокойно у всех на виду,
ничем не хвалясь, ничего не скрывая,
по-честному речь о себе поведу.
Моя биография вписана просто —
в листочек анкеты, в четыре угла,
но я расскажу про такие вопросы,
которых анкета учесть не могла.
О годе рожденья вопрос чуть заметен,
а он поднимает из сердца слова...
Какое рожденье отметить в анкете,
когда на веку их случается два...
Это было еще в тридцатом.
Поутру, покинув вокзал,
парнем серым и простоватым
я впервые в артель попал.
Взял старшой меня, не торгуясь
(сам-то кругленький, будто еж),
и в работу запряг такую,
что не охнешь и не вздохнешь.
Знал я мало, умел немного.
Если ж спросишь о чем таком,
он тебе отвечает строго,
будто по уху — матюком.
Так трудился — неделю, месяц,
может, с толком, а может, в брак,
позабыл, как поются песни,
научился курить табак.
Но за месяц кассир угрюмый
мне «два ста» рублей отсчитал...
Понимаете, эта сумма
для моих земляков — мечта!
...Только раз, после вьюжной смены,
я на митинг вхожу в тепляк,
вижу — наш-то старшой со сцены,
как оратор, толкует так:
мол, расценки, сказать по правде,
обирают рабочий люд,
дескать, здесь нам бумажки платят,
а в Кузнецке и спирт дают.
Мы, мол, тоже не прочь погреться
да податься в Сибирь отсель,
дескать, я говорю от сердца,
за свою говорю артель...
Тут и кончились разом прятки, —
при народе светлейшим днем,
целых пять земляков из Вятки
мироеда признали в нем.
В шуме, криках, вскипевших штормом,
взявших оборотня в оборот,
ярость бешено сжала горло
и рванула меня вперед.
...Видел я только эту харю,
оболгавшую всю артель.
Может, я по ней не ударил,
только помню, что бил, как в цель...
Об этом я вспомнил совсем не напрасно,
я знаю, как ярость за сердце берет.
А это ж — та самая ненависть класса,
с которым дышу я и строю завод.
Я знаю завод с котлована, с палатки,
с чуть видимой дымки над каждой трубой,
здесь каждый участок рабочей площадки
сроднился с моей невеликой судьбой.
За мною немало тореных дорожек,
я волей не беден и силой богат,
а в душу как гляну суровей и строже —
не чую покоя и славе не рад.
Живу как живется, пою без разбора,
дружу с кем попало и бью невпопад
и даже к победам, горя от задора,
иду, останавливаясь, наугад.
Завод в котлованах — под бурями начат,
в работе растет он железным, в борьбе...
И это, пожалуй, всё то же и значит,
что я говорю вам сейчас — о себе.
Я верности вечной не выучен клясться,
не скажешь словами, как сердце поет.
Я вижу — вы юность железного класса,
с которой отныне пойду я вперед.
1932
Целый брод обычнейшей волынки.
Отпускная... Станция... И вновь
будет все готово без .запинки,
до прощальных и обычных слов.
Предпоследней отправной заботой
путь к вокзалу и далек, и сух.
Все ребята будут на работе,
попрощаться не с кем, недосуг.
Поезд быстр, гремуч и непокорен,
и когда заря хранит запал,
город отступает за предгорья,
чтобы через месяц выступать.
Двое суток под вагонной крышей...
И выплывет вовремя, наконец,
теплое курганское затишье,
трактовой запевки бубенец.
Степь лежит ровна, как на тетрадке,
по низовьям рыбная вода.
И хорошим окончаньем тракта
сосны закачаются тогда.
Девки, погремите
канителью песен,
старые знакомки,
молодой ровняк,
чтобы здесь звенело,
грохало за лесом!
Или позабыли
прежнего меня?
Парни приветствие
за руку отметят,
протолкуют бережно
до вечерних рос,
может, молча требуя
долгом беседы
самых первосортных
белых папирос.
Росница вечерняя,
прозрачная пороша
свежестью сливается
в улицы, и вот
наши запевки
неводом хорошим
вечер и деревню
взяли в обход.
Зарей самобытен и вечен,
хозяин бесед и огней —
плывет замечательный вечер
по родине первой моей.
На лицах отсвет его розов.
В дому, где живет родня,
проходит собранье колхоза
со срочной повесткою дня.
Раздумье пока колосится,
осматриваюсь вокруг:
родные и прежние лица
знакомых, друзей и подруг.
В «речугах», словах «по вопросу»
заботой, незримо тугой,
встает напряженье покоса
подсчетом копен и стогов.
— Дела, — говорит председатель, —
приходится круто решать,
сенов еще много не взято,
а тут поднапер урожай.
Судили, рядили, решали,
какой оборот приискать,
и дума одна и большая
у каждого билась в висках.
Сижу здесь не без почета,
все кажется ново, свежо,
но чувствую: в заводь заботы
я тоже со всеми вошел.
Пока этот узел здоровый
никто не сумел развязать,
я тихо беру себе слово,
чтоб многое рассказать.
Я свое словечко сказанул не просто —
так, мол, и этак, и начистоту
рассказал историю заводского роста,
знавшую немало суховеев, стуж.
Как родятся первые корпуса завода,
железобетонные от самой земли,
как в работе брали мы высшие рекорды,
крепкие атаки отчаянно вели.
Так вот до полуночи
все и просидели,
порешив назавтра
штурмом бригад
во что бы то ни стало
до конца недели
скошенное сено
заметать в стога.
Не до смеха, не до запевок,
бродит горечью суховей.
Сено справа и сено слева,
под рубашкой, на голове.
Запеклись сухолистьем губы,
пот соленый чернит загар,
только копны идут на убыль,
только песней растут стога.
Только мускулы жмет работа,
копны режем под корешок,
только после любого взмета
выдох падает — хо-ро-шо!
Будто вновь напряженье стройки,
небывалый атак напор,
и бригада таких же стойких
парней, крепких, как на подбор.
И до сутеми горизонта
кошениною, лугом, сплошь
наступаем хорошим фронтом
мы — разночубая молодежь.
Сходит вечер высшего сорта.
В песнях, в сердце — крутой огонь,
он и в сводке горит рекордом,
записавшим тридцать стогов...
...Так работою загораясь,
по рекордам равняя бег,
ходят будни родного края
по первопуткам больших побед.
Осень заплывает рваною погодою,
отпуск незаметно прошел. Пора!
Только покидаю первую родину
легче да лучше, чем в первый раз.
Самое же главное, что начало пройдено.
Расскажу товарищам лучшими из слов:
по второй равняется первая родина
на крутой дороге сегодняшних боев.
А пока, ни капли в песне не тоскуя,
выйдите, ребята, немного проводить.
Все равно когда-нибудь снова потолкуем
о делах прекрасных в нашем впереди.
1933
ДЕВУШКИ-ПОДРУЖКИ
цикл стихотворений
Нету брода в синем море,
на груди не переплыть,
нету горя горше горя —
гармониста любить.
Я ходила, я устала
на работе заводской,
сердце биться перестало,
сердце требует покой.
До рассвета за стеной
льется дождик проливной.
Выйдешь в двери — схватит дрожь,
полквартала не пройдешь.
А в тринадцатом квартале,
через пять больших ворот,
в громком доме, в светлом зале
ходит белый хоровод.
В белом круге без печали
гармонист один сидит,
он гармонику качает
на крутой своей груди.
Я надела платье белое,
напудрила лицо,
шубу зимнюю надела,
тихо вышла на крыльцо.
Я иду — куда, не вижу,
задыхаюсь, а иду,
я гармошку ненавижу,
насылаю ей беду:
— Частый дождик, выбей стекла
у любимого в дому,
чтоб гармоника размокла —
по веленью моему,
чтобы лак сошел навеки
и рассыпались лады...
По проулкам льются реки,
стынут ноги от воды.
А вошла я в зал едва,
закружилась голова.
Как зазвякали звоночки,
как ударили басы,
по минутке, по часочку,
позабыла про часы,
про заботу, про усталость,
про размытые пути...
Я до трех часов плясала,
целовалась до пяти.
Ветер будит город свистом,
не видать из туч зарю,
на прощанье гармонисту
откровенно говорю:
— Драгоценный мой орленок,
песня — крылья всех орлов,
пуще карточек дареных
и серебряных часов,
пуще денег, пуще дома,
пуще писем дорогих,
пуще сердца молодого
ты гармошку береги!..