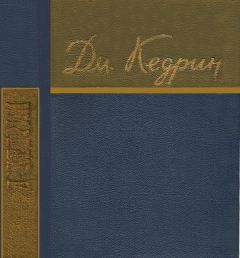1933
ДЕВУШКИ-ПОДРУЖКИ
цикл стихотворений
Нету брода в синем море,
на груди не переплыть,
нету горя горше горя —
гармониста любить.
Я ходила, я устала
на работе заводской,
сердце биться перестало,
сердце требует покой.
До рассвета за стеной
льется дождик проливной.
Выйдешь в двери — схватит дрожь,
полквартала не пройдешь.
А в тринадцатом квартале,
через пять больших ворот,
в громком доме, в светлом зале
ходит белый хоровод.
В белом круге без печали
гармонист один сидит,
он гармонику качает
на крутой своей груди.
Я надела платье белое,
напудрила лицо,
шубу зимнюю надела,
тихо вышла на крыльцо.
Я иду — куда, не вижу,
задыхаюсь, а иду,
я гармошку ненавижу,
насылаю ей беду:
— Частый дождик, выбей стекла
у любимого в дому,
чтоб гармоника размокла —
по веленью моему,
чтобы лак сошел навеки
и рассыпались лады...
По проулкам льются реки,
стынут ноги от воды.
А вошла я в зал едва,
закружилась голова.
Как зазвякали звоночки,
как ударили басы,
по минутке, по часочку,
позабыла про часы,
про заботу, про усталость,
про размытые пути...
Я до трех часов плясала,
целовалась до пяти.
Ветер будит город свистом,
не видать из туч зарю,
на прощанье гармонисту
откровенно говорю:
— Драгоценный мой орленок,
песня — крылья всех орлов,
пуще карточек дареных
и серебряных часов,
пуще денег, пуще дома,
пуще писем дорогих,
пуще сердца молодого
ты гармошку береги!..
Два крыла у белой птицы,
птицей быть хотела я —
хорошо тебе любиться,
лебедиха белая!
За горами белый лебедь —
через горные хребты
полетите в чистом небе
либо лебедь, либо ты.
Только жалко, я не птица,
а не птице нелегко —
одинокой не сидится,
и любимый далеко.
До него дойдешь не скоро —
каждый путь по три версты,
через весь широкий город,
через реки и мосты.
Я одна сижу в печали
и гадаю день-деньской:
кабы стала я начальник
самый главный городской,
я пришла бы в горсовет —
никаких задержек нет:
— Дайте стекол, дайте лесу,
кирпича в бордовый цвет!..
Перед дверью, под окошком,
я построила бы дом
с белокаменной дорожкой,
с палисадником кругом.
Я поставила бы в спальне
сторублевую кровать,
я прибила б к окнам ставни,
чтобы на ночь закрывать.
На часочек отложила
неотложные дела,
на серебряной машине
дорогого привезла.
Я вошла бы с важной речью,
чтобы слушал он один:
— Я дарю Вам дом навечно,
драгоценный гражданин.
Запрещаю потаенно
в этих комнатах глухих
целовать глаза девчонок,
кроме ясных глаз моих.
Получайте и живите,
хоть до ста дремучих лет,
в день два раза заходите
в мой домашний кабинет,
чтобы справиться в начале
и в конце большого дня,
нет ли горя и печали
в тихом сердце у меня.
Над окном сова летала,
загорались светляки...
Я гнала слезу усталым
взмахом трепетной руки.
Как заснуть от горькой муки,
остудить глаза свои
от полуночной разлуки,
от неслыханной любви?
Я судила, я гадала,
под окном своим страдала
по родному, дорогому —
незаметно, невзначай
подошла к чужому дому,
с горя в двери застучав.
Вышел ласковый в тревоге,
вышел в радости — родной,
тот, что нынче при дороге
называл меня женой.
Говорю: — Воды искала,
обыскала весь свой дом...
Дай с водою два бокала
и один бокал со льдом...
Молча воду он несет,
вся минута — словно год.
И велело сразу сердце,
через робость, через стыд,
от воды — губам согреться,
от слезы — глазам остыть.
Говорю: — Сама не знаю,
отчего стою с тобой,
вся — озябшая, больная,
обними меня, укрой.
Подведи меня к постели,
дай мне хину, если есть.
Чтобы стекла не блестели,
окна темным занавесь...
Я заснула сном усталым,
золотым, залетным сном
на груди его. Светало.
И во сне сова летала
над моим родным окном...
Спят сады, а мне не спится.
Мне до света не уснуть.
Тяжелей травы — ресницы,
тяжелее камня — грудь.
Выйду в сад-палисад,
тополя во сне стоят.
Выйду, сяду, позорю
на березовой скамье,
позорюю, погорюю,
что не ходишь ты ко мне.
Ходишь дальний мимо окон,
по дорожке из лучей,
синеглазый и высокий,
и не мой, и ничей.
Я окно в дому открою,
всё гляжу и не дышу,
познакомиться со мною
тихим шепотом прошу.
Про тебя везде гадаю,
по садам брожу одна,
против воли забываю
у подружек имена.
До чего же ты довел,
незнакомый новосел!..
Это кто же, мне на горе,
в город наш тебя привез:
самолет ли через горы,
через реки ль паровоз?
Лучше жил бы ты подале,
лучше к нам бы никогда
самолеты не летали,
не ходили поезда.
Лучше я бы в мире целом
не слыхала про тебя.
Всё бы пела, всё бы пела,
не страдая, не скорбя.
Дорогим своим знакомым
говорила б наяву:
— В этот вечер беспокойный
я спокойная живу.
Не сижу у светлых окон,
до утра ночами сплю,
синеглазых и высоких
отчего-то не люблю...
Золотой, неповторимый,
словно тополь, весь прямой,
и желанный, и любимый,
без конца и края мой,
ясным летом поутру,
встал на каменном яру...
Птица чайка, привечая,
легкий голос подает,
волны светлые качают
отражение твое.
Над моим ты встанешь сердцем,
ивы кланяются мне,
ты в моем глубоком сердце
словно в утренней волне.
Я тогда тебя забуду,
покоренная, когда
сквозь железную запруду
хлынет синяя вода.
Когда станут облаками
все березы над тобой,
когда вырастет на камне
колокольчик голубой.
Когда в месяце июне
остановит речку лед,
когда ночью в полнолунье
солнце на небе взойдет.
И польется из колодца
меду желтого струя.
Когда сердце не забьется
и остынет грудь моя.
От неслыханной разлуки
припадут к земле цветы,
понесут меня подруги
бездыханной, — когда ты
как в бреду пойдешь за ними,
с горя слова не сказав...
Сестры шапку с тебя снимут,
ветер высушит глаза.
1936
КРАСНОЕ СОЛНЫШКО
цикл стихотворений
* Всю неоглядную Россию *
Всю неоглядную Россию
наследуем, как отчий дом,
мы — люди русские, простые,
своим вскормленные трудом.
В тайге, снегами занесенной,
в горах — с глубинною рудой,
мы называли хлеб казенный
своею собственной едой.
У края родины, в безвестье,
живя по-воински — в строю,
мы признавали делом чести
работу черную свою.
И, огрубев без женской ласки,
приладив кайла к поясам,
за жизнь не чувствуя опаски,
шли по горам и по лесам,
насквозь прокуренные дымом,
костры бросая в полумгле,
по этой страшной, нелюдимой,
своей по паспорту земле.
Шли — в скалах тропы пробивали,
шли, молча падая в снегу,
на каждом горном перевале,
на всем полярном берегу.
В мороз работая до пота,
с озноба мучась, как в огне,
мы здесь узнали, что работа
равна отвагою войне.
Мы здесь горбом узнали ныне,
как тяжела святая честь
впервые в северной пустыне
костры походные развесть;
за всю нужду, за все печали,
за крепость стуж и вечный снег
пусть раз проклясть ее вначале,
чтоб полюбить на целый век;
и по привычке, как героям,
когда понадобится впредь,
за всё, что мы на ней построим,
в смертельной битве умереть.
...А ты — вдали, за синим морем,
грустя впервые на веку,
не посчитай жестоким горем
святую женскую тоску.
Мои пути, костры, палатки
издалека — увидя вблизь,
учись терпению солдатки —
как наши матери звались, —
тоску достойно пересилив,
разлуки гордо пережив,
когда годами по России
отцы держали рубежи.
* Когда бы мы, старея год от году, *