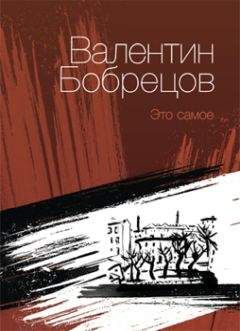«Переплет потрепан весьма…»
Переплет потрепан весьма,
титул выдран – благая весть!..
На первой странице зима.
Без прикрас, такая, как есть.
Воробьиный скок. Скрип лопат.
Действо ухарское, хоккей.
Блики утлых коньков слепят
старичка, что молвя «кхе-кхе»,
тычет клюшкой в мерзлый песок,
удивлен ото всей души:
– То ли я чересчур уж плох,
то ли дворники хороши…
Нагляделся. Перелистну —
не затем эту книгу брал,
чтоб читать страницу одну.
На другой… типографский брак?..
в той же клинописи когтей
воробьиный январский снег.
Лёд и люди – точно как те,
что на первой. Да и на всех —
до мерцающего во тьме
эпилога, когда луна
по-иному осветит мне
факты белой книги окна.
Портрет тридцатитрёхлетнего
Ну а дале, старче,
жевание крох.
Проживанье сдачи
с 33-х.
Ужин в ресторане,
завтрак на траве.
Легкость в кармане,
тяжесть в голове.
Борода в клочья,
алые очи,
синие уста…
Боже, что за харя
глядит из зазеркалья,
словно со креста?
«И снова над осеннею землёю…»
Ордер этот
В охапку.
В распределитель путь.
Получил я там – летом! —
Шапку
Котиковую,
Не какую-нибудь!
А. Безыменский. О шапке
И снова над осеннею землёю,
сырая и закисшая слегка,
овчинка неба, траченная молью,
повисла, полы окунув в снега.
Глаза поднимешь: Боже, что за пакля! —
Торчит клоками серое руно.
Болотиной баранья шерсть запахла.
Однако, полагаю, всё равно —
когда и ветер, и мороз без шуток
возьмутся за своё, тогда, к весне,
наверняка подсохнет полушубок
и, думаю, окажется по мне.
Смерть – гордая сестра.
Томас Вулф
Трепетные двадцать,
и у ног весь мир…
Хватит забываться,
зеркало возьми!
Жизнь моя, сестрица,
что там, погляди?
Трепаные тридцать,
все из рук летит.
Возразишь, поднявши
перст с кривым ногтём:
– Но упорством нашим
опыт обретен!..
Только этот опыт
радости принес
столько, сколько хобот,
выросший, где нос.
Не играй ресницами,
глазки не строй —
где тебе сравниться
с младшею сестрой.
Той, что год от года
краше да милей,
прямою и гордой —
словно не моей.
Течением времен,
стечением светил
он был приговорен
и сослан на Этил.
Там жалок был и сир,
плененный полубог.
А правый бок пронзил
двуглавый голубок.
Ты везде был первый, даже здесь.
Даже тут, средь неживого леса,
где еще блестит на свежих срезах
зимней флоры крашеная жесть.
Вот снегирь публично освистал
темное двуногих оперенье.
Вот взошла – не светит и не греет —
четырёхконечная звезда.
Вот и всё… который раз В. М.
на листе постылом справа, с краю,
вывожу – и руки опускаю.
Господи! Теперь – кому повем?!
1985–1987
Я – как незваный гость. Хозяйкою – она.
Меж тем луна зажглась, в дыму едва видна.
Сидим и курим. Час. Другой сидим. Часы,
те, что обычно мчат, медлительны, как сыч.
Я знаю, что к утру её осилит сон.
Но одолеть хандру хочу сейчас и сам:
– А не пора ли вам? – гляжу на циферблат…
Ну а она: – Диван, – смеется, – узковат…
– Нет, – горячусь, – меня вы поняли не так!..
– Так, – говорит, – но я весьма ценю ваш такт!..
– Так ли, не так, но что мне, милая, до вас?
Вот дверь. А вот пальто. Ступайте. Бог подаст.
– Голубушка, а ну живей, не копошись!..
Я в дверь её гоню. Она в окошко – шасть!..
«На свет явившись головой вперед…»
На свет явившись головой вперед,
вперед ногами белый свет покину.
Но тот смертельный номер-кувырок
я выполнил всего наполовину.
О квас, перекрестившийся в крюшон!
О толокно, посыпанное перцем!
Но знаешь, я и сам себе смешон
в желании казаться европейцем!
Когда, пройдя от готских шалашей
до кружевных готических игрушек,
лишь луковицу византийских щей
на дне своей тарелки обнаружу.
Куда мне – лаптю, клюкве, русаку!
Ведь я, как ни ряжусь Сюлли Прюдомом,
но протушившись в собственном соку,
закончу Богом или Желтым домом.
«Когда я, опустивши руки…»
Когда я, опустивши руки,
уткнулся в стену, зол и вял,
звонок раздался. Голос в трубке…
Он никуда меня не звал.
Не утешавший, не коривший,
полузабытый голос был
таким, как будто говоривший
стоял в конце моей судьбы.
И знал мой крест: жевать мякину
и чтить синицу в кулаке.
И знал, что ничего не кину,
и что не кинусь ни за кем.
Смочивши губку эликсиром,
собрав нательного тряпья,
негромко: – Это ты? – спросил он.
И я ответил: – Нет, не я…
«Свет на зелени светозарен…»
Свет на зелени светозарен,
изумруд в серебре, ноябрь.
Только – даже снам не хозяин —
как ты смел посягать на явь!
Руки прочь! Не ведаешь разве,
сотрясая основы основ,
что и в собственном Сонном Царстве
ты всего лишь смотритель снов…
«Мне снилось: в захолустном кинозале…»
Мне снилось: в захолустном кинозале,
в залузганном, под смех и всхлип дверной,
я слушал фильм с закрытыми глазами
и жизнь свою смотрел, как сон дурной,
и порывался встать, когда валторна
звала туда, где ирис и левкой, —
о как я не хотел прожить повторно
мой чернобелый, мой глухонемой,
что был затянут, как канава тиной,
и, как канава эта, неглубок…
Но жизнь свою проспав до середины,
я на другой перевернулся бок.
И снова сплю. И сон другой мне снится,
тот, чаемый давно и горячо:
как будто я освободил десницу
и почесал затекшее плечо.
И вот красивый, тридцатитрехлетний,
и меч, и крест пихнувши под скамью,
я сладко сплю, как казачок в передней,
и авиньонскому внимаю соловью.
Вплетает, что ни день,
искусник-водомет
златую канитель
в белесый небосвод.
Что ночь, то фейерверк
в падении косом
льет яхонты на мех,
рубины на виссон.
Усердно коренясь
во глубь чухонских глин,
хотя и занят князь
постройкою руин,
но крыши над главой
прилежных поселян
соломою златой
взор княжий веселят.
Какие высокие своды
возвел нам осьмнадцатый век,
столетье единой свободы,
к которой готов человек;
не той, что внушает надежды,
а царства купает в крови, —
свободы – от нашей одежды,
свободы – для нашей любви.
Однако я слогом высоким
увлекся. Пускай не любви.
Лукавым он был и жестоким —
изменой ее назови.
Иль в честь той Блудницы Великой —
на пышных плечах горностай —
утехой, амурной интригой —
как хочешь, ее называй.
Но тьма воспаленной Европы
в высокое льется окно.
И наши убогие робы
лежат в беспорядке у ног.
Изменой, утехой, усладой —
как хочешь… но полнится стих
и медом круглящихся лядвей,
и солью предплечий твоих.
А впрочем, я снова съезжаю
на оды возвышенный слог.
Как будто резец над скрижалью,
а не карандаш да листок.
Но как высоки эти своды!
Пред ними все стили низки,
когда кроме этой свободы,
не высмотреть в мире ни зги.
Все умерли. Подумай только, все!
Никто не спасся. О, какая сила
заключена в чудовищной косе,
что не головки лютиков скосила,
но головы! И меж пустых, никчемных
вроде моей (еще не снесена), —
те, чьи парсуны в рамах золоченых,
а имена – в томах Карамзина!
Не глядя в лица, всем дала по шеям.
И вот на казнь похожая война
закончилась всеобщим пораженьем.
Однако меж побитых был один
нам явленный, должно быть, для примера.
Единственный, Который Победил.
Хотя никто не знает, только Вера.
1981–1987
Равноубыточными оказались тут
Господен промысел и промысел рыбачий:
и в избах опустевших, и тем паче
по берегу – не на одну версту,
где ладии, гниющие вверх дном,
и храм, откуда выперли Исуса,
напоминают о других ресурсах.
А стариков стращают Судным днем…
Там юность, зрелостью не став,
впадала в старость, как ручей в болото.
А гнев Господен в тех сомнительных местах
сидящего на кочке Лота
испепелял…
И я там был. Гулял.
Из чертова копытца
пил мертвую —
и всё никак не мог напиться…