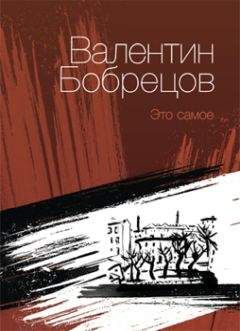3
Все умерли. Подумай только, все!
Никто не спасся. О, какая сила
заключена в чудовищной косе,
что не головки лютиков скосила,
но головы! И меж пустых, никчемных
вроде моей (еще не снесена), —
те, чьи парсуны в рамах золоченых,
а имена – в томах Карамзина!
Не глядя в лица, всем дала по шеям.
И вот на казнь похожая война
закончилась всеобщим пораженьем.
Однако меж побитых был один
нам явленный, должно быть, для примера.
Единственный, Который Победил.
Хотя никто не знает, только Вера.
1981–1987
Равноубыточными оказались тут
Господен промысел и промысел рыбачий:
и в избах опустевших, и тем паче
по берегу – не на одну версту,
где ладии, гниющие вверх дном,
и храм, откуда выперли Исуса,
напоминают о других ресурсах.
А стариков стращают Судным днем…
Там юность, зрелостью не став,
впадала в старость, как ручей в болото.
А гнев Господен в тех сомнительных местах
сидящего на кочке Лота
испепелял…
И я там был. Гулял.
Из чертова копытца
пил мертвую —
и всё никак не мог напиться…
Кто там – за окошком талым,
в опрокинутой ладье?..
Спать пойду. Отправлюсь даром
фильмы ужаса глядеть.
И буду, засыпая, охать.
А пробуждаясь, утверждать,
что может собственных Хичкоков
земля российская рождать.
Есть еще порох в пороховнице.
Только покудова не просох.
Рано. Ведь даже ворона в Ницце
еще не пробовала голосок.
Мокрые молоньи сушит Юпитер.
Вместо грома грохает бром.
Рано. Сыро. И полон Питер
холмогорских тучных ворон.
1987
Автопортрет в манере депрессионизма
Неповоротливей статуи конной,
словно в шубе на пляже, нелеп,
мрачен, словно страдалец иконный,
не орёл, не сокол, не лев —
некая помесь бескрылого с жвачным,
тень, ползучий дым без огня —
словно Девушкин и Башмачкин
совокупясь, породили меня.
1987
«Двери, как гробы, стоящие стоймя…»
Двери, как гробы, стоящие стоймя.
О, какой же некрофил их вырыл!
Если умирать или сходить с ума —
только это место я бы выбрал.
Что за трупоблуд надумал их лишить
умиротворения загробного!..
Если умирать… а если жить…
Я не знаю, я еще не пробовал…
Северная Пальмира, по излюбленному выражению Фаддея Булгарина.
Достоевский
Константинополь должен принадлежать России.
Ламартин
Константинополь должен остаться в руках мусульман.
«Ко всем трудящимся мусульманам России и Востока». Обращение Совета народных комиссаров от 20 ноября 1917 года
Не нужен мне берег турецкий.
М. Исаковский.
Петербург, да что вам в этом имени?
Ветер, камень да щепоть земли.
Не сиделось в Устюжне да Тихвине —
на болото черти понесли.
Чтобы тут, на вымышленном острове,
удержавшись чудом на плаву,
за тремя придуманными сестрами
как молитву повторять: – В Москву!..
А потом три постаревших грации
выйдут из нордических Афин
коридором третьей эмиграции
замуж в Турку, ту, в которой финн;
и въезжая с барственной развальцею
в сей освобожденный бельэтаж,
скажете: – Реченное сбывается!
И Константинополь будет наш!
«Счастливый, как нашед подкову…»
Счастливый, как нашед подкову
в приморском аэропорту,
о, как я на траву шелкову,
Вас увлекая, упаду
в воображаемом лесу,
где под словесными дубами
я мысленных свиней пасу,
надеясь на свиданье с Вами.
«Наверно, это мне кричат?..»
Наверно, это мне кричат?
А я бегу, как вор с пожара:
чужая шуба на плечах
и на руках жена чужая.
А Вечный Третий Лишний Рим…
…Кричат, морозный дым вдыхая,
не то «держи», не то «горим»…
Какая дикция плохая!
«Амур на цепке у двери оскалил пасть-колчан…»
Амур на цепке у двери оскалил пасть-колчан.
Творю кумира, говоришь? И я бы не молчал!
И я бы – тень до потолка, из жалости суров —
ученику не потакал, но преподал урок.
Его бы било и трясло, он стал бы нем и бел.
И тех сомнительных трех слов подумать не посмел.
О, я не цацкался бы с ним, но, пропадай, Эдип!
его ему бы объяснил, признанья упредив.
Так, милая, – с усмешкой, зло откинув прядь со лба…
О, я сказал бы! Ремесло нехитрое – слова.
Я слышу голубя иных потопов.
Дж. Унгаретти
Белый голубь свежести непервой
меж камней, под окнами, внизу
прорастает, брызжа пеной перьев,
как безумья режущийся зуб;
прорастает с болью небывалой,
и недаром этою весной,
этим утром это небо в алой
пелене – как нёбо над десной.
И взмывает в полдень, лирохвостый,
на карниз ковчега жестяной,
где, под ложе кинув меч двуострый,
ты с чужой спасаешься женой…
Из губы прокушенной сочится
розоватым мартовским светлом
алый рыбий глаз растенья-птицы,
вдвое увеличенный стеклом;
за окном господен соглядатай,
на её груди твоя рука,
и клубятся у черты закатной
вспененные волны-облака.
С легким дыханьем, с летучей стопой —
экая дерзость
даже подумать, что станет с тобой
лет через десять.
Синь под глазами (сейчас лишь аванс)
и годовые
кольца на шее (какая у вас
гордая выя!).
Впрочем, не слушай, что я говорю,
ибо, о тело,
я говорю – будто Яго, варю
яд для Отелло.
Ибо не знаю, чтоб краше была,
ибо доселе
и без того виноград ваших глаз
слишком уж зелен.
С иголочного острия
куда ж вы, миленькие, сплыли?
Пыльцы серебряной струя
да вихорь платиновой пыли,
сверкнув в огне закатном, ах!
вияся оседают на пол,
во пух и тополиный прах
растоптанных древесных ампул.
Дырка в ткани универсума,
именуемая мной,
та, в которую небесная
тьма и холод неземной
льются ближнему за шиворот, —
да я сам бы ту дыру
ликвидировал-зашил, да вот
ниток все не подберу.
Прядем-прядем. Озлобились. Поникли.
Работа – пытка. Результат – убог.
Прикиньте сами, с каждого по нитке.
Изрядный получается клубок.
Но что в нем проку, кроме славы вящей?
Мы знаем цену этого труда.
Из нашего клубка никто не свяжет
и варежек паршивых никогда!
«Долго жил я, глаз не поднимая…»
Долго жил я, глаз не поднимая,
и ходил науськивая пса,
чтобы подавал мне по команде
кошельки глядящих в небеса.
Отправляясь с миссией особой,
жаждал он неслыханных наград…
Возвращался друг мой густопсовый
хвост поджавши – дескать, виноват.
Ни купюры крупной, ни монеты
не сыскал среди районных кущ.
Дыры тем карманам имманентны.
Прах табачный кошелькам присущ.
В многоместной рыбьей кости башне
своды в паутине и низки.
Глубоко вздохнёшь, зайдёшься в кашле.
Выйдешь вон – не высмотришь ни зги.
Закатились светочи, затмились.
Утонули в дыме и смоле.
Гляну в небо – где, скажи на милость,
где же звёзды юности моей?..
Не бывать Ивану в Златоустах,
сидючи, как мышь, под колпаком
этих оцинкованных и тусклых,
как окно в уборной, облаков.
Небо Иоанна. Небо Канта…
Ну а это – давит и гноит.
Атмосфера небом небогата,
разве лишь дарами Данаид.
Искры божьи, мирозданья угли,
отсияв, погасли без следа.
Отпылали светочи, потухли.
И на небе лишь одна звезда
теплится и точит свет печальный,
но и та – сощурься да прикинь:
то ли новый аппарат летальный,
то ли восходящая Полынь.
19813
И ближний, с лодкою вверх дном,
пригрезился – и дальний берег.
И свет в оконном и дверном
проемах, золотистый перед
заходом. И во мгле звезда,
безлюдная планета страсти.
И мысль, что эта красота
мир не спасет, но вечер скрасит.
Дозволь хоть помечтать о ней,
поре прозрачной, дальнозоркой,
где на пологом склоне дней
играет сохлою осокой
озёрный ветер. И хотя
я жил старопечатной книгой,
дом, где собака и дитя,
пропах грибами и черникой.
Пожелтели и пожухли
листья книги записной.
Гой вы, каменныя джунгли,
где тут выход запасной?
Аз не ведаю, который
час ли, день, а может, год
вкруг соснового забора
на следах своих шагов,
меж наполненных плевками
алюминиевых пней
я точу подножный камень
сталью обуви своей,
высекаю каблуками
из гранита васильки —
и кружу, ведом лукавым,
василиском городским.
Я один. И остальные
из асфальтовой реки
отхлебнули и, хмельные,
разбрелись, как грибники.
Разбрелись – и всё, как в воду.
Где они? Ищи-свищи.
То-то ветр высоковольтный
воет аки тать в нощи…
Вот, зеленый свет завидя
и приметивши просвет,
хлопаю глазами, выйдя
на Лесной проспект.
Пропади! Машу руками,
но опять качусь, как ком.
Но опять хожу кругами,
этой нечистью влеком.
Холостые обороты.
Авангард или обоз?..
Снова на свои блевоты
возвращаюсь, аки пёс.