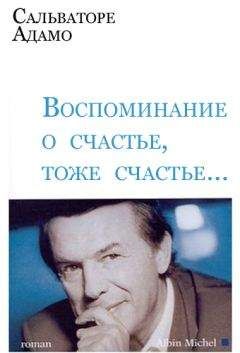ЗИМА
Взметнулся лыжник и исчез, –
И над двойным скользящим следом
Сомкнулся глухо белый лес
Коралловым морозным бредом.
Но вот на синеватый наст,
Сквозящий в солнце аметистом,
С еловой лапы съехал пласт
И развалился прахом льдистым;
И ель вздохнула глубоко,
Упруго ветку разогнула
И солнцу низкому легко
С приветом лапу протянула.
«Посмотри налево, посмотри направо…»
Посмотри налево, посмотри направо –
Никого на дорожке, только елки одни, –
Отломи от сугроба кусочек шершавый
И с атласного склона столкни:
По бороздке голубой,
Обрастая сам собой,
Быстро, в искрах, удаляясь,
В ленту снежную мотаясь,
Кувыркаясь круто, прытко,
Докатился, лег, —
Как усталая улитка,
Снежный завиток.
И никто не смотрел ниоткуда
На веселое чудо, —
Только я, да синицы, да ели,
Затаив дыханье, глядели
На его полет.
Но ведь мы не в счет?
«Лужи мягко подтаяли к полночи…»
Лужи мягко подтаяли к полночи,
Утром снова ушли под кристалл, —
На душе и в лесу было солнечно,
Тихий, чистый мороз не мешал.
И на склоне под буками голыми
Рыжий лист посветлел и обсох —
В нем шуршала ногами веселыми,
Раскрывала оливковый мох…
И прозрачно синица чирикала,
Легкий мусор роняя с ветвей.
Эго были от жизни каникулы —
От заботы моей. И твоей.
В памяти горек и крепок —
Просто забыть не могу —
Запах оранжевых щепок
В сером зернистом снегу.
Запах встревоженной чащи,
Свежих растоптанных хвой;
Ствол, на поляне лежащий,
Ствол опрокинутый твой…
Долго стояла, не веря,
У опустевшего пня, —
Словно любимого зверя
Кто-то убил у меня.
Весь пестрый лес от солнца и от снега,
От сумрака и от проталин черных…
Из чащи треск испуганного бега —
Быть может, коз, быть может, духов горных?
Оборвалась подмокшая лавина
И, о стволы свой натиск разбивая,
Вся в брызгах низвергается в долину,
Скача, крутясь, пьянея, как живая…
И вот легла — крутой и пестрой грудой, —
Вся в бурых листьях и в щетине хвойной, –
А в мертвых льдинках солнечное чудо
Сияет влажно, весело и знойно.
«В Кайзертале синеют пролески…»
В Кайзертале синеют пролески,
Воздух свежим теплом напоен,
И кудрявится в солнечном блеске
Весь от вереска розовый склон.
Все дела с их земною корыстью
Позабуду — и слышится мне:
Шепчет ветер сквозь бурые листья
О желанной и близкой весне.
И том же, упавший с разбега,
Ручеек над ущельем поет,
И над серыми пятнами снега
Первой бабочки пьяный полет.
«Я в лесную часовню зашла помолиться…»
Я в лесную часовню зашла помолиться
И неловко присела на твердой скамье.
В голых буках звенели весенние птицы,
Бились хрупкие льдинки в холодном ручье.
Я сказать ничего не сумела Мадонне,
Подошла — и забыла святые слова, —
Но подснежник, что вянул на теплой ладони,
Положила у гипсовых ног в кружева, —
Весь зеленый и белый, с оранжевым глазом,
Удивленно расцветший над черным ручьем.
Пусть заменит он Ей своим светлым рассказом
Неумелую повесть о счастье моем.
Оттаяла горная тропка,
Но лес еще светел и пуст,
Желтеет сережками робко
Прозрачный ореховый куст.
Крадусь — и боюсь оступиться,
Глотаю взволнованный вздох:
Как ярок под козьим копытцем
На солнце дымящийся мох!
Вот чуткая дрогнула шея,
Глядит широко, не дыша…
Чуть пепельных веток рыжее,
Как горный цветок — хороша.
Мгновенье — метнулся летящий
Стрелою из лука прыжок,
Провеял по солнечной чаще
Точеных копыт топоток…
Как взгляд ее теплый и дикий
Раскрылся в смертельной игре.
…Оглоданный кустик черники.
Шерстинки на грубой коре.
«Клок облака в ущелье, на рассвете…»
Клок облака в ущелье, на рассвете
И розовое солнце поутру.
Избушка над обрывом. Чистый ветер.
И зыбкий блеск березок на ветру.
Здесь отдохну – на солнечном пороге
Чужой избушки, и пойду опять
Во мшистом сумраке лесной дороги
Мои грибы и песни собирать.
«Там, внизу, в городке счастливом…»
Там, внизу, в городке счастливом
В полдень молятся колокола…
Здесь ползут по жарким обрывам
Сосен бронзовые тела,
Извиваясь в змеиной хватке,
Повисая над крутизной.
Я на вересковой площадке
Под такую сижу сосной.
Рядом – рыхлый и теплый конус –
Муравейник под солнцем спит,
Но тихонько рукой дотронусь –
Словно шелком зашелестит;
И, вскипая, как бисер черный,
В битву ринутся муравьи —
Побегут щекоткой проворной
И вопьются в пальцы мои.
Я разгневанных осторожно
С пальцев на землю отряхну.
Надо знать, под какую можно
На горе садиться сосну
И что в древнем лесном законе
Человек — самый страшный зверь…
Долго будут пахнуть ладони
Муравьиным спиртом теперь.
Там, где бурый пень, как медведица,
На малинник теплый забрел,
В низком ельнике нежно светится
Черновато-молочный ствол.
А из наста хвой смугло-розовых,
Гладко слежанных зимним сном,
Встал на цыпочки подберезовик,
Словно пойманный солнцем гном.
После грозы, разразившейся днем,
Чистая звездная ночь за окном.
Капли, срываясь, лепечут в саду…
Я по грибы на рассвете пойду, —
Влажной тропинкой, в сырой тишине,
С облаком, спящим на сизой сосне.
Где у часовни под липой скамья,
Весело встретимся — солнце и я.
В первом тепле на скамье отдохну —
Облако тихо покинет сосну,
К легкой и новой плывя синеве.
А на опушке, в блестящей траве,
За ночь пробьется в зеленую брешь
Рыжик — молочно-оранжев и свеж.
Капля во впадине шляпки легла —
Так маслянисто и нежно кругла…
Пальцы зарою в сырую траву —
Ножку нащупаю, выну, сорву
И приложу осторожно к губам,
Солнцу смеясь, и земле, и грибам!
Весь лес дымится, капая, шурша,
Сквозя струящимися облаками.
Ручей, с горы навстречу мне спеша,
Промыл тропинки выщербленный камень.
И грохотом сорвался водопад,
Плеща по скалам влажной, белой пылью…
Промокший лес так пасмурно-мохнат,
Весь напоен грибной пахучей гнилью.
На перевале рвутся облака,
И солнце льется в мир сырой и тесный,
И в ветре — запах хвойного дымка,
И горных трав, и свежести небесной.
Так нежно-жарок солнечный припек,
Так ветерок тепло ласкает губы,
Когда, присев на сохнущий порог
Пастушьего заброшенного сруба,
Я вниз смотрю, где облачная мгла
Колеблется медлительно и вяло —
Она лежит, сияюще-бела,
Упавшим на долину покрывалом…
Внизу томится тленная тоска
И словно тянет щупальца к вершине.
Я счастлива так солнечно и сине —
Я ж хочу спускаться в облака.
«Лес рубили – и всё зверье…»