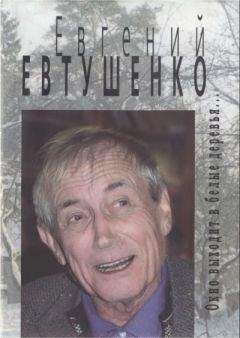ПОЭТ И СВЯЩЕННИК
Я шел по Иерусалиму,
и воздух звенел, как стекло.
Жарой меня просолило
и совестью пропекло.
Пошатываясь от упорства,
проулок нашел, где Христос
ладонью о стену оперся,
молчанием речь произнес.
Вот признак, что в сердце есть сердце, —
Стоять за других до конца.
Неважно на что опереться,
но лишь бы на чьи-то сердца.
И столькие поколенья
от детскости и от любви
в то самое углубленье
вжимали ладони свои.
В религии я своенравный.
Был бабушкой тайно крещен,
но как пионер православный
за все ли я Богом прощен?
Поэт и священник из Польши
не мог отменить все, что пошло,
но кажется мне по всему —
что с неба — ни меньше, ни больше
сошло покаянье к нему.
В содоме политики, денег,
когда неподкупного нет,
поэт — это тайный священник
и тайный священник — поэт
Судьбой на распятие вброшен,
убийцу он обнял, как брат,
и даже покаялся в прошлом,
в котором был невиноват.
Над бедностью не вознесся —
в себе ее с болью носил,
и даже за крестоносцев
прощения попросил.
А мы не устали возиться
с оправдыванием чумы.
За наши костры инквизиций
еще не докаялись мы.
Что ждет нас? Пока все мы в яме
интриг, воровства и войны.
Что может спасти? Покаянье
и неповторенье вины.
Застряли мы в нравственной лени,
но верую, что неспроста
я чувствую в том углубленьи
тепло от ладони Христа.
4-7 апреля 2005
По-сиротски люблю я тебя.
Ты одна мне жена —
не толпа.
Если пальчиком позовут
и легко попадусь —
позабудь!
Позабудь,
что я сверхзнаменит,
что мой голос, как мяч, звенит,
но мне некому пасануть
слово звонкое.
Позабудь!
Позабудь, что отец твой и мать
тебя все-таки могут обнять.
А меня только ты…
Как-нибудь.
Ты с детьми да с детьми…
Позабудь!
Позабудь, что я всех несвятей —
сотворец наших общих детей,
что меня, как за позу, бьют
за бескожесть мою…
Позабудь!
Позабудь, что в больничном окне
богоматерью виделась мне,
что венчались под сенью креста.
Не забудь то, что я — сирота.
14 июня 2005 Переделкино
"То язвительная, то уязвимая…"
То язвительная, то уязвимая,
мой защитник и мой судья,
мне сказала моя любимая,
что она разлюбила себя.
Есть у женщин моменты загнанности,
будто сунули носом в хлам,
тайный ужас от собственной запусти,
злость ко взглядам и зеркалам.
Мною вылепленная, мной лепимая,
меня вылепившая, как судьба,
мне сказала моя любимая,
что она разлюбила себя.
Время — это завистливый заговор
против юности и красоты,
но в глазах моих время замерло,
и в них лучшая женщина — ты.
Так зазывно играют разлуки мной,
но в тебя я хочу, как домой.
Не позволь себе стать разлюбленной
мной
и даже тобою самой.
7 августа 2005
Послевкусие счастья чуть-чуть, но горчит,
все прощальнее сердце неровно стучит.
Но покуда любовью нагрета кровать,
в потягушечки можно еще поиграть
и вдышать в твои волосы так горячо:
«Боже, как хорошо! А тебе хорошо?»
Послевкусие счастья чуть-чуть, но горчит.
Свет жесток по утрам.
Счастье шепотом ночью кричит.
И толкает отчаянье — больше, чем страсть,
словно к матери в детстве, приткнуться, припасть,
понимая всем страхом шагреневых лет —
после жизни уже послевкусия нет.
20 февраля 2006
У реки, где тайга вся выжжена,
возле станции Залари
из обкатанной гальки выложено:
«Забери меня, забери!»
Вертолетчик — он как нарисованный.
Я ресниц не видал длинней:
«Я, товарищ, в любви образованный,
но девах не встречал дурней.
Ну, была она в общем трахнута,
говоря по честному, мной.
Но я вкалывал раньше на тракторе —
так его же не брал я домой.
И уж слишком она приставучая,
как завидит — обнимет, сжимат.
Знает, где я летаю, и мучает.
Разве я виноват, что женат?
Вдруг, рехнувшись от бабьей надобности,
прыгнет в реку — пускать пузыри?
Все гогочут над этой надписью:
„Забери меня, забери!“»
И лицо его длинноресницее
оползло с нелюдским хохотком:
«Да куда забирать-то? В милицию?
Там и так все набито битком…»
Здесь, где царской и сталинской каторги
приснопамятные места,
люди, будто бы камни обкатанные,
но в камнях прорастают уста.
И становится все угрюмее,
все истерзанней и больней
наше кажущееся смирнодумие,
крик выдавливая из камней.
Всем на шаре земном в одинокости
от жестокости зверской, нагой
только мнится, что в райской далекости
жизнь — другая. Но нету другой.
С пепелищами и погостами
мир — огромные Залари.
Удержусь ли от просьбы к Господу:
«Забери меня, забери!»?..
18 марта 2006 Талса
Запутанный в гражданственной борьбе моей,
я был на ужин приглашен Берберовой.
Она, порхая молодо и лихо,
была и сомелье, и повариха.
А было ей годков за девяносто.
Она — из инкунабул.
«Diva nostra».
«В Москве гостей встречать не разучились.
Но ссорятся в России — просто ад.
Плебейство это, а не разночинство,
когда друг друга поедом едят».
…В Москве со мной борцы за демократию
расправились как будто бы каратели,
поставив дружно девятнадцать подписей
в письме под списком всяких моих подлостей.
Я потрясен был подписью приставкинской,
страдавшего в то время от предстательной.
Не стыдно было той же авторучке
писать мне благодарно закорючки
в размазах слез, на титульном листе
за помощь золотой опальной «Тучке»,
пробитой сквозь цензурные колючки,
меня потом предав по простоте?
Любая, даже малая царапинка
почти смертельна, если от соратника.
Год после путча.
Город Филадельфия.
Дымился русский супчик с фрикадельками.
Он пресен был, но пахнул всё же лучше,
чем танки доморощенного путча.
Армяночка, татарочка, «масонка»
смотрела на меня — как на мышонка
сиамская породистая кошка
глядит, жалея, видимо, немножко.
И Нина вдруг, как будто невзначай,
так мягко, словно нянечки в больницах,
спросила, разливая мятный чай:
«А вы —
вы возвращаться не боитесь?»
Но я, вопросом обращенный в прах,
как мог ответить — разве лишь надрывно,
когда не разберешься, где тут страх,
а где, прости уж, Господи, противно.
Я думал так наивно, что нечисты,
лишь эти тряскорукие путчисты,
но осрамились наши либералы,
такие же врали и обиралы.
Я из ушей попсятиной блюю,
родимым телевиденьем насытясь.
Не лезьте в душу, всё еще мою.
Не надо меня спрашивать, молю:
«А вы —
вы возвращаться не боитесь?»
Так спрашивала Нина Николаевна,
хоть не имела в мире ни кола она, —
зато ее страницы шелестят,
как чеховский живой вишневый сад.
И Ходасевич, пепельно-седой,
как будто лишь на час ушел из дому,
встал за ее спиной немолодой,
зато открытой так по-молодому.
Он строг был, как безмолвный прокурор,
а взгляд был укоряюще цианист
и душу мне так больно проколол.
За что вы, Владислав Фелицианыч?
Шагал, вы не вернулись в старый Витебск,
а после смерти все-таки боитесь?
Вся из России изгнанная Русь
боялась возвращения —
по праву,
и я хотел сказать сначала правду,
а сам сказал неправду:
«Не боюсь».
2006