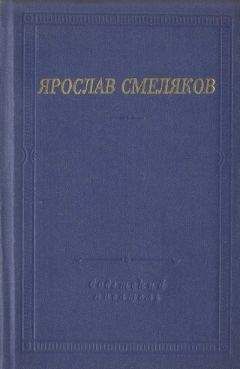271. НИКОЛАЙ ПОЛЕТАЕВ
В складе памяти светится тихо и кротко,
как простая иконка в лампадных огнях,
Николай Полетаев в косоворотке,
пиджаке и не новых смазных сапогах.
Лучше всякой заученной злобно науки
мне запомнились, хоть я совсем не простак,
эти слабые, длинные, мягкие руки,
позабывшие гвоздь, молоток и верстак.
В коридоре пустынном метельною ночью,
улыбнувшись беспомощно и горячо,
этот старый, замученный жизнью рабочий
положил свою руку ко мне на плечо.
Пролетает мой день в тишине или в звоне,
мне писать нелегко и дышать тяжело.
На кого возложить мне пустые ладони,
позабывшие гвоздь, молоток и кайло?
1968
Словно поздняя в поле запашка
меж осенним леском и лужком,
черный волос у Шубина Пашки,
припорошенный первым снежком.
Не однажды, Россию спасая,
в бой ходила большая рука.
Плечи крепкие — сажень косая,
и отчаянный лоб батрака.
Для вернейшего сходства портрета,
чтоб не вышло, что тот, да не тот,
это русское буйство одето
в заграничный дрянной коверкот.
Это в наши салоны и залы
для ледащих страстей городских
из Кубани станица прислала
закоперщика песен своих.
И сейчас, как не раз уже было,
подходя и с бочков, и с лица,
мимоходом столица сгубила
перелесков и пашен певца.
Доконала искусством и водкой.
Поздно, поздно, хотя второпях,
вы приехали, сестры и тетки,
хоронить его в черных платках.
1968
Не на извозчике, а пеший,
жуя потайно бутерброд,
в пальтишке стареньком Олеша
весной по улице идет.
Башка апрельская в тумане,
ледок в проулочке блестит.
Как чек волшебника, в кармане
рублевка старая лежит.
Ее возможно со стараньем
истратить на закате лет
на чашку кофе в ресторане,
на золотой вечерний свет.
Он не богат, но и не жалок,
и может, если всё забыть,
букетик маленьких фиалок
одной красавице купить.
Но так тревожно и приятно
не обольщать и не жалеть,
а в переулочке бесплатно
снежком и наледью хрустеть.
Пускай в апрельском свежем мраке,
не отставая там и тут,
как бы безмолвные собаки,
за ним метафоры бегут.
1968
Такие тоже есть поэты
в стране прекрасной и большой:
у них земли и неба нету,
а только строчки за душой.
Есть только видимость искусства
без поражений, без щедрот,
там всё ослаблено и пусто:
ни очертаний, ни высот.
А ты живешь трудясь и долго
из-за того, товарищ мой,
что поворачивается Волга,
плеща и тешась, за душой.
Я видел плес ее однажды,
в теченье нескольких минут,
лишь из окна, с поспешной жаждой,
в какой-то выехав маршрут.
Но по твоей судьбе и воле
она вошла в мое житье:
ее стремнины, и раздолье,
и даже отмели ее.
1968
В одном театре, в темном зале,
неподалеку под Москвой
тебя я видел вместе с Валей,
еще женой, уже вдовой.
И я запечатлел незыбко,
как озаренье и судьбу,
и эту детскую улыбку,
и чуть заметный шрам на лбу.
Включив приемник наудачу,
средь волн эфира мировых
вчера я слушал передачу
кружка товарищей твоих.
Они, пробившись к нам сквозь дали,
не причитали тяжело,
а только медленно вздыхали,
как будто горло им свело.
И эти сдержанные вздохи
твоих подтянутых друзей —
как общий вздох одной эпохи,
как вздох морей и вздох полей.
Я видел сквозь туман московский
как раз тридцатого числа,
как тяжкий прах к стене Кремлевской
печально Родина несла.
Ты нам оставил благородно,
уйдя из собственной среды,
большие дни торжеств народных
и общий день одной беды.
1968
Я заявляю для журналов
и для писательских газет,
что возраст мой отнюдь не малый,
его скрывать мне смысла нет.
Но что-то вовсе не похоже,
чтоб я хотел, свершая путь,
стать хоть немного помоложе
и юность дальнюю вернуть.
Под этим зимним небосводом
я рад тому, что навсегда
мои как раз совпали годы
и революции года.
Не знаю, как там будет дальше,
но возраст свой в своем краю —
без фанфаронства и без фальши —
я никому не отдаю.
1968
Был дождь и снег апрельский сразу,
асфальт дымился и блистал,
когда я с жителем Кавказа
к Поляне Ясной подъезжал.
Меж елей, выстроенных строго,
от снега мокрого светла,
бесшумно двигаясь, дорога
вдоль дома барского вела.
Мы шли задумчиво впервые,
всё повидавши на веку,
к святому месту всей России,
как бы мальчишки к старику.
Его могила тут весною
стоит без близких и родных,
обернутая вечной хвоей,
среди подснежников живых.
Здесь тихо веет от могилы
средь чистоты и темноты
одною силой, только силой,
не признающей суеты.
Он ею мерился немного
лишь ради хватки удалой
и с философией, и с богом,
и даже с самою землей.
1968
Пускай к тебе течет отсюда
моя веселая хвала,
большая круглая посуда,
страны калмыцкой пиала.
Там, на путях труда и брани,
в своей кибитке кочевой
ты знала и бульон бараний,
и чай калмыцкий золотой.
Менялась степь, пора сменялась,
но под шатровым потолком
ты трижды кряду наполнялась
кобыльим белым молоком.
Какая б ни была погода,
в руке негнущейся своей
тебя держал хозяин рода
и смуглый отрок, сын степей.
Еще я знаю то сугубо,
что припадали по утрам
калмычки жаждущие губы
к твоим наполненным краям.
В тебя, в тебя, на самом деле,
бесстрастны и невеселы,
глазами круглыми глядели
и кобылицы и орлы.
Благодарю за ту удачу,
что в подмосковной полумгле
ты прикатила к нам на дачу
и поместилась на столе.
Забыв чернила и бумагу
и сев за скатерть в свой черед,
пью из тебя хмельную влагу
за степь твою и твой народ.
1968
279. «Еще вчера в степи полынной…»
Еще вчера в степи полынной
пирог мы ели именинный
и пили горькое вино.
Как в пляске на эстраде нашей,
за пиалой ходила чаша,
пока не сделалось темно.
В котлах, горящих из тумана,
варились целые бараны,
шипели жирно вертела,
и над посудою стеклянной
витал щемящий дух сазана
и стерлядь длинная плыла.
Гора не сходится с горою,
как мы сошлись с ее икрою,
воздавши честь ее бокам.
Вся эта стерлядь золотая,
как будто женщина пустая,
всю ночь ходила по рукам.
Склонив победные знамена,
истратив порох похоронный,
мы пировали день и ночь.
Кумыс под темным небосводом
вкушал старик седобородый,
и пили пиво мать и дочь.
Мы ели всласть и пили вдоволь
смеялись девушки и вдовы.
И, благочестью вопреки,
стучала белая посуда,
с кастрюлек сыпалась полуда
блистали старые клинки.
Еще вчера, в начале мая,
мы пили водку, заглушая
печаль и грусть сердец больных.
Вокруг пылающей столицы
всю ночь скакали кобылицы —
увы! — без всадников своих.
1968