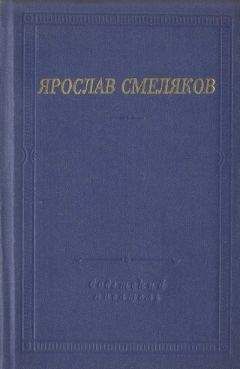289. НАЗЫМ
Не год, а десять с лишним лет,
то солнечных, то хмурых,
в России жил Назым Хикмет,
голубоглазый турок.
Он жил в квартире городской
Московского Совета,
как в социальной мастерской
строительства планеты.
Ни табака и ни вина,
ни трубки, ни бокала,
и только рукопись одна
без ветра трепетала.
Мы с ним не только хлеб да соль,
да прелести идиллий,
а нашу честь и нашу боль
по равенству делили.
Он обожал сильней всего,
свои уймя печали,
когда по имени его —
Назымом называли.
Чтоб этот мир единым стал,
как видится и снится,
он с упоением шагал
через его границы.
Гудит и дышит микрофон
на площади и в зале.
На всех конгрессах будет он,
на каждом фестивале.
Он так себя держал и вел
уверенно и юно,
как будто в прошлое пришел
из будущей коммуны.
И вот сейчас его рука,
как в собственном дастане,
для всех земель из пиджака
грядущее достанет.
И по стиху, и по уму,
по всей своей природе,
по назначенью своему
он был международен.
А поздней ночью всё равно
в погашенном отеле
его глаза через окно
на Турцию глядели.
На тот тишайший небосклон,
на то земное лоно,
где был за всё за это он
объявлен вне закона.
1969
В гудки индустрии поверя,
спав от волнения с лица,
мы вышли все из сельской двери,
сошли с крестьянского крыльца.
И нас от старого крылечка
и вдоль села, и за село,
кружась и прыгая, колечко
в далекий город увело.
Нет, это вовсе не отсталость,
что с той поры до этих дней
вся та земля, что там осталась,
осталась в памяти твоей.
Ты весь засветишься на рынке
средь повседневной тесноты,
в крестьянской ивовой корзинке
увидев сельские цветы.
Оттуда, от полян и речек,
с какой-то детскою тоской
они пришли к тебе навстречу,
бывалый житель городской.
Вези их в утреннем трамвае,
не суетясь и не спеша,
неловко к сердцу прижимая,
увялой свежестью дыша.
Тебе цветы расскажут эти,
их полевая простота,
что где-то там на белом свете,
как рожь на утреннем рассвете,
шумят родимые места;
что светит небо дорогое
и так, да и не так, как тут,
и за собою, за собою
тебя обратно позовут.
Любовь к земле на расстоянье
нехлопотлива, хоть трудна.
Но это всё не покаянье,
а только лирика одна.
Одна страна, одна Россия
взяла под собственную сень
и наши судьбы городские,
и судьбы наших деревень.
1969
С закономерностью жестокой
и ощущением вины
мы нынче тянемся к истокам
своей российской старины.
Мы заспешили сами, сами
не на экскурсии, а всласть
под нисходящими ветвями
к ручью заветному припасть.
Ну что ж! Имеет право каждый.
Обязан даже, может быть,
ту искупительную жажду
хоть запоздало утолить.
И мне торжественно невольно,
я сам растрогаться готов,
когда вдали на колокольне
раздастся звон колоколов.
Не как у зрителя и гостя
моя кружится голова,
когда увижу на бересте
умолкших прадедов слова.
Но в этих радостях искомых
не упустить бы на беду
красноармейского шелома
пятиконечную звезду.
Не позабыть бы, с обольщеньем
в соборном роясь серебре,
второе русское крещенье
осадной ночью на Днепре.
…Не оглядишь с дозорной башни
международной широты,
той, что вошла активно в наши
национальные черты.
1969
В силу сердца и в силу традиций
я собрался — в какой уже раз! —
со стихами к тебе обратиться
с Красной площади в праздничный час.
Это здесь с увлеченьем всегдашним,
раздвигая плечом небосвод,
вековые и вечные башни
ты поставил, рабочий народ.
Сам по твердости схожий с гранитом,
не жалея старанья и сил,
Мавзолея гранитные плиты
ты печально и гордо сложил.
Ты соткал для гражданской отваги
и пронес по раздольям страны
Революции ленинской флаги
и знамена Великой войны.
По духовному смыслу и складу,
по учебникам собственных школ
ты, построив сперва баррикады,
на плотины потом перешел.
А теперь, как в привычную смену,
в межпланетную даль высоты,
на монтаж и на сварку Вселенной
не спеша собираешься ты.
И на будущем том космодроме,
где-то между Луной и Москвой,
будешь вешать свой табельный номер,
как железный мандат заводской.
Жизнь России уже утвердила,
подтвердила эпоха сама
созиданья рабочую силу,
пролетарскую силу ума.
1969
Расулу Гамзатову, Мустаю Кариму, Кайсыну Кулиеву, Давиду Кугультинову
Вы из аймаков и аулов
пришли в литературный край
все вчетвером — Кайсын с Расулом,
Давид и сдержанный Мустай.
Во всем своем великолепье
вас всех в поэзию ввели
ущелья ваши,
ваши степи,
смешенье камня и земли.
Они вручали вам с охотой,
поверив в вашу правоту,
и вашей лирики высоты,
и ваших мыслей широту.
Сквозь писк идиллий и элегий
я слышу ваши голоса.
Для поэтической телеги
нужны четыре колеса.
И, как талантливое слово,
на всю звучащее страну,
четыре звонкие подковы
необходимы скакуну.
Припомнить можно поговорку,
чтоб стих звучал повеселей:
всегда козырная четверка
бьет и тузов, и королей.
1969
294. РАЗМЫШЛЕНИЯ У НОВОГОДНЕЙ ЕЛКИ
Мы кузнецы, и дух наш молод…
Ф. Шкулев
Они недаром ходят, толки,
что в Горках памятной зимой
ты был у Ленина на елке,
мой современник дорогой.
Ту елку посредине зала,
как символ неба и труда,—
не вифлеемская венчала,
а большевистская звезда.
Светились лампочки и свечки.
Водили робко хоровод
вы, небольшие человечки,
ребячий чистенький народ.
И, сидя как бы в отдаленье,
уже почти уйдя от дел,
в последний раз товарищ Ленин
на вас прищуренно глядел.
И с торопливостью усталой,
еще стройна и не стара,
для вас торжественно играла
без нот до самого финала
и снова с самого начала
раскат «Интернационала»
его любимая сестра.
И заробевшие вначале
девчурочки и сорванцы,
уже сияя, распевали:
«Мы кузнецы! Мы кузнецы!»
Да, дух ваш был и вправду молод
в те достославные года.
Они недаром, Серп и Молот,
над вами реяли тогда.
…Никто не видел в те мгновенья
его, ушедшего во мглу.
Какие отблески и тени
прошли по бледному челу!
Он размышлял, любуясь вами,
о том, как нынешний народ
в боях простреленное знамя
без командарма понесет.
Он думал, глядя в дни иные
и в нашу жизнь из тех времен,
как сложится судьба России
и всех народов и племен.
Ну что же, мы и в самом деле
с неколебимой правотой
на всю планету нашумели,
как вы в тот день на елке той.
И, глядя в прожитые дали,
отсюда, из своей земли,
давайте вспомним в звездном зале,
что мы и нынче, как вначале,
не отступились, не солгали,
не отошли, не подвели.
1969