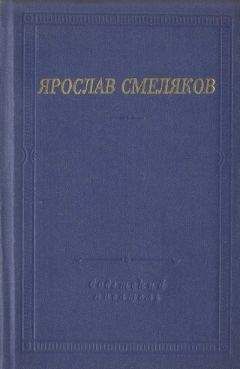280. ЛЮБЕЗНАЯ КАЛМЫЧКА
Курить, обламывая спички,—
одна из тягостных забот.
Прощай, любезная калмычка,
уже отходит самолет.
Как летний снег, блистает блузка,
наполнен счастьем рот хмельной.
Глаза твои сияют узко
от наслажденья красотой.
Твой взгляд, лукавый и бывалый,
в меня, усталого от школ,
как будто лезвие кинжала,
по ручку самую вошел.
Не упрекая, не ревнуя,
пью этот стон, и эту стынь,
и эту горечь поцелуя.
Так старый беркут пьет, тоскуя,
свою последнюю полынь.
1968
Был учитель высоким и тонким,
с ястребиной сухой головой;
жил один, как король, в комнатенке
на втором этаже под Москвой.
Никаким педантизмом не связан,
беззаветный его ученик,
я ему и народу обязан тем,
что все-таки знаю язык.
К пониманью еще не готовый,
слушал я, как открытье
само, слово Пимена и Годунова,
и смятенной Татьяны письмо.
Под цветением школьных акаций,
как в подсумок, я брал сгоряча
динамитный язык прокламаций,
непреложную речь Ильича.
Он вошел в мои книжки неплохо.
Он шумит посильней, чем ковыль,
тот, что ты создавала, эпоха,—
большевистского времени стиль.
Лишь сейчас, сам уж вроде бы старый,
я узнал из архива страны,
что учитель мой был комиссаром
отгремевшей гражданской войны.
И ничуть не стесняюсь гордиться,
что на карточке давней в Москве
комиссарские вижу петлицы
и звезду на прямом рукаве.
1968
282. СТЕПНОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ
Как в той истории великой,
давным-давно, в начале дня,
не представляли мы калмыка
без кобылицы и коня, —
так в наше время, в нашу пору,
нельзя представить облик твой
без узкоглазого шофера
и без машины удалой.
Отрадно ехать на машине
сквозь золотистые валы:
кусты зеленые полыни
и одинокие орлы.
Я всё трясусь в автомобиле
вдоль по дороге столбовой,
и шлейфы самой тонкой пыли
трепещут где-то за спиной.
Всем недругам своим на зависть
ты развернулась в полный рост.
И волосы твоих красавиц —
как ночь без месяца и звезд.
А на привале под пластинки,
когда стихают зной и пыль,
они трепещут, как тростинки,
и гнутся, как степной ковыль.
1968
Твоя недюжинная сила,
от наслажденья хохоча,
за Стенькой Разиным ходила
и обожала Пугача.
Твердыни наши охраняя,
ты в черной бурке с башлыком,
с кобылы медленно свисая,
рубила недругов, блистая
своим решающим клинком.
По следу гиблому французов,
гоня туда девятый вал,
тебя угрюмо вел Кутузов,
седой российский генерал.
Во всем своем великолепье,
землей парижскою пыля,
ты принесла седло и степи
на Елисейские поля.
Вдоль по бульварам знаменитым,
между растворенных дверей
стучали мягкие копыта
верблюжьей конницы твоей.
Ты в наше время не устала,
но, тем набегам вопреки,
своих верблюдов расседлала
и в ножны вставила клинки.
Ты нынче трудишься проворно,
живешь, как пахари живут.
Но пахнут степи нефтью черной
и маки красные цветут.
1968
Василь Васильич Казин
семидесяти лет
умен, благообразен
и тщательно одет.
Он сам
своих же строчек
лирический герой:
отец — водопроводчик,
а дядюшка — портной.
Он вовсе не зазнался,
поэт наш дорогой,
что с Лениным снимался
на карточке одной.
Тем утром пролетарским
его средь запевал
заметил Луначарский,
Есенин целовал.
Ему не нужен посох,
он излучает свет,
лирический философ
своих и наших лет.
Он был все годы с теми,
кто не вилял, а вел,
его мололо время,
и он его молол.
И вышел толк немалый
из общих тех работ:
и время не пропало,
и он не пропадет.
1968
Я жизни сложную науку
не то чтобы в одной из школ,
а постепенно, самоукой,
одной усердностью прошел.
Весь мир, огромный и прекрасный,
скопленье книжек и степей,
теперь звучит единогласно
в усталой памяти моей.
Двадцатый век, предельно сложный,
в своем веселье и тоске
весь сопрягается надежно
на черной классовой доске.
Во мне живут покамест немо
и ожидают невдали
теории и теоремы
совместно с практикой земли.
Теперь могу я, коль случится,
чтоб молодым хоть что-то дать,
не только медленно учиться,
но и неспешно обучать.
1968
Не для трудящейся питерской Охты,
не для братвы прибалтийской морской
сшита ужасная желтая кофта
маминой слабой, неверной рукой.
Ровно прострочена крупная строчка,
намертво выстроен пуговиц ряд.
Что ж, громыхай, запятая и точка,
бейте, литавры, бесчинствуй, набат!
Важное дело исполнено вроде.
Дышит растерянно бедная мать.
Желтую кофту одернул Володя,
глянул в окно и пошел выступать.
Желтая кофта покроена ловко,
выстрочен празднично каждый стежок.
Скоро старьевщик как раз за рублевку
купит ее и засунет в мешок.
1968
Кому воздать? С кого мы взыщем
тут, у забвенья на краю?
Я в Пятигорске на кладбище,
сняв шапку, медленно стою.
Ах, я-то знаю, что поэта,
внушавшего любовь и страх,
давно в могиле этой нету,
лишь крест печальный в головах.
Над опустевшею могилой
остался только навсегда
тот крест, которым осенила
Россия вся себя тогда.
Его без пастырского слова,
как будто пасынка земли,
на лошадях в гробу свинцовом
сквозь пол-России провезли.
Он был источник дерзновенный
с чистейшим привкусом беды,
необходимый для вселенной
глоток живительной воды.
1968
Вы родня мне по крови и вкусу,
по размаху идей и работ,
белорусы мои, белорусы,
трудовой и веселый народ.
Хоть ушел я оттуда мальчишкой
и недолго на родине жил,
но тебя изучил не по книжкам,
не по фильмам тебя полюбил.
Пусть с родной деревенькою малой
беспредельно разлука долга,
но из речи моей не пропало
белорусское мягкое «га».
Ну, а ежели все-таки надо
перед недругом родины встать,
речь моя по отцовскому складу
может сразу же твердою стать.
Испытал я несчастья и ласку,
стал потише, помедленней жить,
но во мне еще ваша закваска
не совсем перестала бродить.
Пусть сегодня простится мне лично,
что, о собственной вспомнив судьбе,
я с высокой трибуны столичной
говорю о себе да себе.
В том, как, подняв заздравные чаши,
вас встречает по-братски Москва,
есть всеобщее дружество наше,
социальная сила родства.
1968