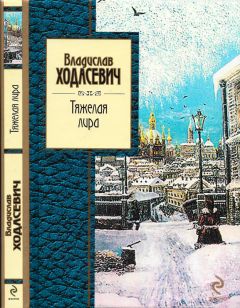Глава 5
Бедная нахмуренная Кло.
Все кричали: вот его убийца.
От людских упреков, как стекло,
Может наше сердце раздробиться.
Прячась днем, а вечером у нас
Ты рыдала, детски сжавши руки.
Сколько дней не ведала ты сна,
Сколько дней проплакала от муки.
Эта смерть тебя приподняла
И качнула в сторону иную,
И прошила страшная игла
В детском сердце полосу стальную.
Жизнь прошла — годами затекла —
И в песке безмолвия зарыта,
Но сегодня память извлекла
Этот хлам угаснувшего быта.
Снова в сердце стойкий холодок,
И опять — измученный, неправый —
Я влюблен в старинный городок,
Снежный, синеватый и лукавый.
Слушаю призыв монастыря,
Силуэты вижу в желтых окнах,
И алеет зимняя заря
В облаках на розовых волокнах…
В коричневый свой обезьяний мех,
Застегнутый почти у подбородка,
Вы прячете и горечи, и смех,
Изломанная женщина-уродка.
Изгиб бедра упрямо нарочит,
Клише судьбы — в кивке полувопроса.
Вы понимаете — ваш вид кричит
От туфель до подрезанного кросса.
И все-таки, когда ваш силуэт
Из света в ночь умчат метельно сани,
Острей иных очарований нет
И хочешь слов, улыбок и касаний.
………………………………………..
Идут года, и светопись морщин
С висков у глаз уже рисует маску…
И все-таки швырнет в глаза мужчин
Развратную и дерзкую гримаску.
Раз пьяный друг сквозь зубы бросил «Тварь!»
И снес, дрожа, удар твоей отместки:
Твоя душа упряма и мертва,
А ноготки отточены в стамески.
И образ твой не потому ль томит,
Что ты всегда у выступа обрыва,
Что ты всегда таишь, как динамит,
Возможность неожиданного взрыва.
Здесь тело истомилось от тоски,
Там дух погиб над творческим захватом.
В какой-то миг они, роднясь, близки,
Клубясь тоской, как дымом синеватым.
Украв веселость в алкоголе,
Ломает смех черты лица,
Но сердце, сжатое в уколе,
Уже стремит удар конца.
И в истерическом припадке,
Себя швыряя поперек,
Кричишь, что веришь в мир лампадки
И в очистительный урок.
Ты говоришь, что где-то мама,
Что есть сестра и честный зять,
А мы молчим и ждем упрямо,
Чтоб успокоенную взять.
И после капель сладко-жгучих,
Когда и плач, и голос тих,
Ты вдруг поймешь, что нету лучших,
Что нет хороших и плохих.
И замирает возмущенье,
И каменеет тишина.
Прими и ты свое крещенье,
Пойми, что ты обречена.
Раскинув ноги, голым животом
Белеешь ты на страшном ложе том,
Где корчилась и изнывала похоть.
А старичок, склонившись на кровать,
Спешит штиблет скорей расшнуровать —
Торопится и дряхло будет охать.
Потом в пивной, где синеватый газ
Подвел углы у потемневших глаз,
Ты будешь пить и слушать гул Арбата.
И, кокаином нос запороша,
Ты подождешь, пока твоя душа
Не станет сумрачной, заостренно-горбатой.
И мертвыми покажутся все лица,
И скажешь ты, хрипя, как дьяволица:
«Не вы, не вы, а он со мной живет!
Он крадется, оборотясь мужчиной,
И трижды в день под новою личиной
Мне оголяет груди и живот…»
И, вся кипя, метнешься на бульвар,
В ночной мороз, клубя из горла пар,
И будешь дьявола искать в толпе прохожих…
Глядеть в глаза, заглядывать в лицо,
Неся в душе железное кольцо,
Ища Его, встречая лишь похожих…
Я знаю, ты скажешь: «Еще бы!»
О, спутник с движеньями льва,
Страшнее трясин и чащобы
Закутанный в полночь бульвар.
Скамьи, за скелетом киоска
Песчаного круга кольцо,
И луч электрический плоский
Ладонью ударил в лицо.
Но дальше, в слепой закоулок,
Где самое страшное — быль,
Где ветер протяжен и гулок,
Где хлесткая снежная пыль.
Ты думаешь, пусто? Но ближе
Решетки гусиный плетень,
Где сумрак затянет, залижет
К стволу прислоненную тень.
Бездонна столичная полночь.
Ее утомленная речь
Вздымает бессонные волны,
Чтоб где-то высоко сберечь.
И то, что зовется судьбою,
Тоскою пронзает сердца,
Как будто Архангел с трубою
Вознесся над кровлей дворца.
Вспылали стриженые тополи,
Ветвей развеяв волоса.
Вороны крыльями захлопали
И полетели в небеса.
А те, кто ждали, взяты пламенем,
В свирепом огненном бреду
Прошли вперед, за дымным знаменем
И обнажались на ходу.
Худые, жирные… с отвислыми
Грудями, бившими о грудь,
Они руками-коромыслами
Гребли в огне безумный путь.
И дети, рты открыв, в испарине
Бежали между и крича,
Свою мечту о добром барине
Бросая к следу палача.
Мороз уплыл. Скользящей ростопью
Потек с ветвей слезливый всхлип,
И Он прошел тигровой поступью
В аллею запылавших лип.
И шабаша пройдет урочный час так…
Упавшую, возьмут ее в участок
И, слушая царапающий вой,
Не ведая, что Дьявол бродит следом,
И бабий крик считая пьяным бредом,
Ее жестоко бьет городовой.
Вы помните призыв Карамзина:
«Чувствительность, ищи для сердца пищи!»
А до него великая война,
Восстанье на Урале и Радищев.
Помещики сквозь полнокровный сплин
В своем рабе почувствовали брата.
Гвардеец, слабовольный дворянин,
Влюбленный в Робеспьера и Марата.
Так карты жизни путает судьба,
Так рвет поток весной ложбину шлюза..
Событий огнекрылая труба
И золотая Пушкинская муза!
На Западе багрово-золотом
Тяжелой тучи выгибались плечи.
Над городом, построенным Петром,
Лиловой дымью расплескался вечер.
Шла оттепель. Напоминало март
Сырых и влажных сумерек раздумье.
А над дворцом опущенный штандарт
Кричал о том, что император умер.
Тринадцатое истекало. Сон
Окутал улиц темные овраги,
И стиснутый в казармах гарнизон
Наутро приготовился к присяге.
Рылеев, лихорадивший всю ночь,
Из тьмы рассвета дрожек стук услыша,
Поцеловав проснувшуюся дочь,
Перекрестив жену, — сутуло вышел.
У Трубецких в натопленной людской
Шептались девки: «Поднят до рассвета,
С семьей простившись, младший Трубецкой
Потребовал палаш и пистолеты…»
Светало. Плохо спавший Николай
У зеркала серебряного брился
И голосом, напоминавшим лай,
Кричал на адъютанта и сердился.
Он император. Новая гроза
Взойдет на звонкий мрамор пьедестала.
И выпуклые наглые глаза
Впервые нынче словно из металла.
А там, в приемной, комкая плюмаж,
Шептал гонец с лицом белей бумаги,
Что возмущен гвардейский экипаж
И дерзко отказался от присяги.
Забегали, предчувствуя беду
За годы угнетенья и разврата,
И в голосах: «Мятежники идут!»
Из двери вышел бледный император.
Чиновница, не снявшая чепца,
За мужем побежала за ворота,
Ведь мимо оснеженного крыльца
Мятежным шагом проходила рота.
Лабазник закрестился, на дворе
Гостином зашушукался с собратом.
И строилось декабрьское карэ
На площади перед пустым сенатом.
Уже дрожит восторгом мятежа
Мастеровщина… Не победа ль это?
Каховский, нервничая и дрожа,
Три раза выстрелил из пистолета.
Еще бы миг — и не было б царя,
Плетей и крепостного лихолетья,
И ты, четырнадцатое декабря,
Иначе бы построило столетье.
Уже рвануло вихрями борьбы
В народ бесправный, к силам непочатым,
Но цепи исторической судьбы
Не по плечу мечтательным барчатам.
Уже гудел и рос поток людской,
Уже насильник, труся, прятал спину,
Но даже ты, диктатор Трубецкой,
Товарищей на площади покинул!
И в этот миг, когда глаза горят
И каждый раб становится солдатом
И рвется в бой, — они… они стоят!
Стоят и ждут перед пустым сенатом!
И чувствует поднявший меч борьбы,
Что будет бой мечты его суровей,
Что вздыбят степь могильные горбы,
Что станут реки красными от крови.
И сколько близких канет под топор,
И сколько трупов закачают рощи,
И потому он опускает взор
И, как предатель, покидает площадь.
Они стоят. И их враги стоят.
Но громыхает тяжко батарея,
И офицер, в жерло забив снаряд,
Глядит на императора…
— Скорее,
Скорей в штыки! Они — один исход,
Иль правы растопчинские остроты:
«В Париже прет в дворяне санкюлот,
У нас дворяне лезут в санкюлоты».
И император понял: «Дураки!»
И, ощущая злость нечеловечью,
Он крикнул батарее (передки
Уже давно отъехали): «Картечью!»
И пушки отскочили. На лету
Подхвачены, накатывались снова,
И били в человечью густоту,
И, отлетая, рявкали сурово.
И это всё…
Зловеще тишина
Бесправия сгущалась год от году.
И ты, порабощенная страна,
Не получила от дворян свободу.
В аллее дней, блестящ и одинок,
День отгорел бесславно и тревожно.
И, салютуя деспоту, клинок
Ты, дворянин, покорно бросил в ножны.
И виселицы встали. Но не зря
Монарх-палач на площади их строил;
От них до грозных пушек Октября
Одна тропа… И слава вам, герои!
Явились вы, опередивши час,
И деспот вас обрек на смерть и пытку,
Но чуждый вам и победивший класс
Приветствует отважную попытку.
По сумрачному, злому рубежу
Сверкнул декабрь ракетою огнистой,
И, столько лет взывая к мятежу,
Стране как лозунг было: «Декабристы!»