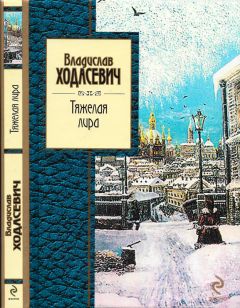Глава 2
У меня был в городе дружок,
Послушник монаха Питирима:
Волоса он подрезал в кружок
И мечтал о катакомбах Рима.
В длинной рясе, бледный и худой,
Он, таясь, лепил «богов» из глины
И талант свой называл бедой,
Искушеньем — замысел орлиный.
Но стихи (тогда явился Блок)
Завладели робостью монашей,
И, ревнуя иноческий срок,
Опускал он взоры перед Клашей.
Когда он лепил — пальцы
Блуждали по глине, как смычки по струнaм,
И в маленьком зальце —
Как в замке казалось нам.
Казалось, монах оттуда,
Где прожил огромно лет,
Принес золотое чудо:
Улыбку, печаль, привет.
И в глине (в унылом тесте,
Как в грубо кошмарных снах)
Рыдал о светлой невесте
Худой молодой монах.
И в комнате, тихой очень,
Такой голубой сейчас,
Размерен, суров и точен,
Шел творчески строгий час.
Кончал. Вытирал монашек
О мокрую ткань ладонь,
А там, на доске для шашек,
Сверкал голубой огонь.
И, в сердце взглянувши чисто, —
О, как этот взор звучал! —
Отрок с руками артиста
Клал уставной начал.
И когда трезвонили к вечерне,
Руку он мне торопливо тряс.
Но была походка всё невeрней
Под полами вздрагивавших ряс.
Послушник в конической скуфейке
Уходил и там, в монастыре,
Принимал свечу от скромной швейки
Перед Спасом в старом серебре.
А потом в своей убогой келье,
Лишь старик уснет, угомонясь,
Он вступал в высокое ущелье,
Как в свой замок следовавший князь.
Музыка, плывущие напевы
Заскользивших в памяти стихов
И светящий властный образ Девы
В остриях утонченных грехов.
Разговор о городе-гиганте,
О свободе смелых и простых
И мечты о радостном таланте
В ореоле радуг золотых.
Теперь всё это давний случай,
Десятилетье протекло, —
Где ты теперь, жива ли, Кло?
Но образ твой из струн созвучий,
Как лунный диск над дымной тучей,
Встает, светя в мое стекло.
Ты так мила. Любила Блока,
Мечтала вдаль, грустя светло,
И ты не Клавдия, ты Кло,
Ты прилетела издалёка,
Где паруса под визгом блока
Срывают пены белой клок.
О радость — целовать без думы,
Любить, жалеть, жестоко взять,
Что будет муж, отец и зять,
Что будет сонный и угрюмый
В гросбухах вычеты и суммы
В итогах бисером вязать.
Мой сладкий Кло, смешной котенок,
Каких не знали мы затей.
(Теперь… ты мать своих детей!)
Твой аромат был сладко тонок,
Он шел от юбок, от гребенок,
От острых, в крапинках, ногтей.
Те память дни приносит близко,
Иду в былое, в тайный лаз.
Ведь счастье только для пролаз,
А ты, мой сон, не одалиска,
Ты — Клаша, Клаша-гимназистка,
И перешла в последний класс.
Когда наметало снега
Почти до самых сеней,
Как сладко лететь с разбега
С горы под прыжки саней.
Как облако, паром мерин,
Лишь слышен тяжелый храп,
Но рaзмах его умерен
Под сенью сосновых лап.
У леса, где встали сани,
Где выше звезды слеза,
Вновь просят уста касаний
И взоров хотят глаза.
И смех твой прекрасен, детка,
В вечерний хрустальный час,
И сыплет, качаясь, ветка
Свой розовый снег на нас.
И к городу снова мчаться,
И чувствовать тонкий плен,
Коленями вновь касаться
Согретых твоих колен.
А колокол, словно било,
Гудит, хрустали дробя…
И надо же, надо было,
Чтоб он полюбил тебя!
Что поделать, Кло — простая барышня,
А ее папаша — казначей.
От реки, где ива и боярышник,
Не уходит далеко ручей.
А монашек, Васенька-ваятель,
Как его мы звали меж собой,
Знал уже, ее послал Создатель,
Называя девушку — Судьбой.
Что ж, любовь для сильных путь веселый,
Хорошо, когда любовь проста,
Но есть странной жизни новоселы,
Их любовь — страдания Христа.
Девушке не умной и не глупой
Эта страсть была как острие,
Быть любимой свято — слишком скупо
Радовало, бедную, ее.
А монашек был уже безумен,
Он пугал избранницу свою…
Почему тогда отец игумен
Не швырнул его в епитимью!
Когда в голубое окно
Лучи наклоненные влиты
И стелет лучи полотно
На своды и темные плиты,
Когда, зажигая фонарь,
Безумие хмурое бредит
И вновь посылает звонарь
Тяжелые возгласы меди, —
Монашек покинул кровать
И петлю швырнул на стропило.
Душа не могла оторвать
Тот образ, который любила.
И черная ряса его
Под трупа фарфоровым взглядом
Висела печально, мертво
На гвоздике рядом.
Прекрасный, смешной и больной,
Святой — говорили иные,
Он крылья пронес надо мной
И канул в поля ледяные.
Что девушка? Разве она
Источник щемящих событий.
Над кем тяготеет луна —
Вовек не уйдут от судьбы те…
Великий обманов исток,
Сквозных отражений светило,
А сердце глядит на восток,
Пока его смерть не смутила.
И умер. И город потряс
Своей исступленной кончиной.
Под шорох влекущихся ряс
Был брошен без пенья и чина.
Бедная нахмуренная Кло.
Все кричали: вот его убийца.
От людских упреков, как стекло,
Может наше сердце раздробиться.
Прячась днем, а вечером у нас
Ты рыдала, детски сжавши руки.
Сколько дней не ведала ты сна,
Сколько дней проплакала от муки.
Эта смерть тебя приподняла
И качнула в сторону иную,
И прошила страшная игла
В детском сердце полосу стальную.
Жизнь прошла — годами затекла —
И в песке безмолвия зарыта,
Но сегодня память извлекла
Этот хлам угаснувшего быта.
Снова в сердце стойкий холодок,
И опять — измученный, неправый —
Я влюблен в старинный городок,
Снежный, синеватый и лукавый.
Слушаю призыв монастыря,
Силуэты вижу в желтых окнах,
И алеет зимняя заря
В облаках на розовых волокнах…
В коричневый свой обезьяний мех,
Застегнутый почти у подбородка,
Вы прячете и горечи, и смех,
Изломанная женщина-уродка.
Изгиб бедра упрямо нарочит,
Клише судьбы — в кивке полувопроса.
Вы понимаете — ваш вид кричит
От туфель до подрезанного кросса.
И все-таки, когда ваш силуэт
Из света в ночь умчат метельно сани,
Острей иных очарований нет
И хочешь слов, улыбок и касаний.
………………………………………..
Идут года, и светопись морщин
С висков у глаз уже рисует маску…
И все-таки швырнет в глаза мужчин
Развратную и дерзкую гримаску.
Раз пьяный друг сквозь зубы бросил «Тварь!»
И снес, дрожа, удар твоей отместки:
Твоя душа упряма и мертва,
А ноготки отточены в стамески.
И образ твой не потому ль томит,
Что ты всегда у выступа обрыва,
Что ты всегда таишь, как динамит,
Возможность неожиданного взрыва.
Здесь тело истомилось от тоски,
Там дух погиб над творческим захватом.
В какой-то миг они, роднясь, близки,
Клубясь тоской, как дымом синеватым.
Украв веселость в алкоголе,
Ломает смех черты лица,
Но сердце, сжатое в уколе,
Уже стремит удар конца.
И в истерическом припадке,
Себя швыряя поперек,
Кричишь, что веришь в мир лампадки
И в очистительный урок.
Ты говоришь, что где-то мама,
Что есть сестра и честный зять,
А мы молчим и ждем упрямо,
Чтоб успокоенную взять.
И после капель сладко-жгучих,
Когда и плач, и голос тих,
Ты вдруг поймешь, что нету лучших,
Что нет хороших и плохих.
И замирает возмущенье,
И каменеет тишина.
Прими и ты свое крещенье,
Пойми, что ты обречена.
Раскинув ноги, голым животом
Белеешь ты на страшном ложе том,
Где корчилась и изнывала похоть.
А старичок, склонившись на кровать,
Спешит штиблет скорей расшнуровать —
Торопится и дряхло будет охать.
Потом в пивной, где синеватый газ
Подвел углы у потемневших глаз,
Ты будешь пить и слушать гул Арбата.
И, кокаином нос запороша,
Ты подождешь, пока твоя душа
Не станет сумрачной, заостренно-горбатой.
И мертвыми покажутся все лица,
И скажешь ты, хрипя, как дьяволица:
«Не вы, не вы, а он со мной живет!
Он крадется, оборотясь мужчиной,
И трижды в день под новою личиной
Мне оголяет груди и живот…»
И, вся кипя, метнешься на бульвар,
В ночной мороз, клубя из горла пар,
И будешь дьявола искать в толпе прохожих…
Глядеть в глаза, заглядывать в лицо,
Неся в душе железное кольцо,
Ища Его, встречая лишь похожих…
Я знаю, ты скажешь: «Еще бы!»
О, спутник с движеньями льва,
Страшнее трясин и чащобы
Закутанный в полночь бульвар.
Скамьи, за скелетом киоска
Песчаного круга кольцо,
И луч электрический плоский
Ладонью ударил в лицо.
Но дальше, в слепой закоулок,
Где самое страшное — быль,
Где ветер протяжен и гулок,
Где хлесткая снежная пыль.
Ты думаешь, пусто? Но ближе
Решетки гусиный плетень,
Где сумрак затянет, залижет
К стволу прислоненную тень.
Бездонна столичная полночь.
Ее утомленная речь
Вздымает бессонные волны,
Чтоб где-то высоко сберечь.
И то, что зовется судьбою,
Тоскою пронзает сердца,
Как будто Архангел с трубою
Вознесся над кровлей дворца.
Вспылали стриженые тополи,
Ветвей развеяв волоса.
Вороны крыльями захлопали
И полетели в небеса.
А те, кто ждали, взяты пламенем,
В свирепом огненном бреду
Прошли вперед, за дымным знаменем
И обнажались на ходу.
Худые, жирные… с отвислыми
Грудями, бившими о грудь,
Они руками-коромыслами
Гребли в огне безумный путь.
И дети, рты открыв, в испарине
Бежали между и крича,
Свою мечту о добром барине
Бросая к следу палача.
Мороз уплыл. Скользящей ростопью
Потек с ветвей слезливый всхлип,
И Он прошел тигровой поступью
В аллею запылавших лип.
И шабаша пройдет урочный час так…
Упавшую, возьмут ее в участок
И, слушая царапающий вой,
Не ведая, что Дьявол бродит следом,
И бабий крик считая пьяным бредом,
Ее жестоко бьет городовой.