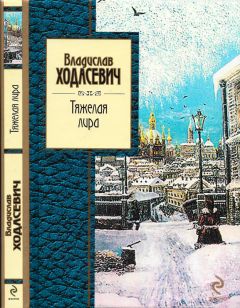«Разве жизнь бывает тесна…»[326]
Разве жизнь бывает тесна
У распахнутого окна,
За которым цветет весна, —
Если ветер в лицо плеснул,
Если слышен прибоя гул,
Если город внизу уснул.
Если тополь уже в цвету,
Если вновь вспоминаешь ту,
За которой блуждал в порту,
Если дом на горе высок,
Если город — Владивосток,
Это памяти лепесток!..
Море — ласковый бриллиант,
Облака, паруса шаланд,
Побережья лиловый кант.
Не сбежать ли опять с горы
Для отыгранной той игры,
От которой глаза мокры?
Ах, какие всё пустяки!..
Но стучат и стучат стихи,
Так мучительны и легки, —
Словно маятник молотком, —
Об одном, об одном, об одном:
Не Россия ли за окном?
Не последний ли взор ее,
Не последнее ль острие
В сердце беженское мое?
Затворилось навек окно,
Занавесил его давно, —
Без окна и в душе темно…
Запыленная жизнь тесна,
Запыленная жизнь душна
Без распахнутого окна!
АУКЦИОН («Проходит год хромающей походкой…»)[327]
Проходит год хромающей походкой,
Клоня рукой плечо поводыря.
Ребенок-день глядит светло и кротко, —
Его предел — вечерняя заря.
И чем слепее поступь года —
Пусть веселей поет поводырек,
Пока его не бросит непогода
Протоптанной дороги поперек.
Со сгибов ручек свешивались грифы,
Швырнув дракону бронзовый браслет.
Как вкрадчиво читал иероглифы
Переводивший их востоковед!
И, ознобив на загудевшей меди
Полуприкрытый шелком локоток,
Американка, крашеная леди,
Сказала: «Да!» — и стукнул молоток.
«Неужели не осилю смерти…»[328]
Неужели не осилю смерти,
Потную от ужаса беду,
И она мне голову отвертит,
Словно негритенок — какаду.
Из силка не рвется, не летится,
Сердце пусто замерло в тоске…
Для чего ж ты выучила, птица,
Десять слов на глупом языке.
Ну, скажи движеньем омертвелым,
Что в жаркое вовсе не годна,
Что дано изведать крыльям белым
Небо до лазоревого дна.
Или, крикнув исступленно-тонко,
Выплюни рубиновую кровь,
Чтобы изумленно негритенка
Надломилась бронзовая бровь.
Чтобы сжались медленные пальцы,
Чтобы сам он яростью помог —
Да! — покинуть огненной скиталице
Белый окровавленный комок.
НАЧАЛО ПРАВДЫ («Докачает, дотрясет, дотянет…»)[329]
У последних дней, последней из тех застав,
Где начало трав
И начало правд.
Марина Цветаева
Докачает, дотрясет, дотянет
Городской автобус. Посмотри:
Железнодорожными путями
Перерезанные пустыри.
Ворон тяжко крыльями промашет,
Спотыкаясь слепо на ветру.
Посмотри, похожи на монашек
Привиденья закоптелых труб.
Как гудка протяжна панихида,
Как рыдают медные уста,
И какая горькая обида
В содроганьях пыльного куста,
В рыжей травке, худосочно слабой,
В черных ямах с зеленью воды,
Где живут жиреющие жабы
С желтыми глазами из слюды.
Кончено, подведены итоги:
Если больше нечему сгорать,
Вот сюда приволокут нас ноги
Бессловесно, подло умирать.
Будешь хрипло отходить во мраке,
Чтобы хмурый сторож поутру
Рядом с трупом бешеной собаки
Отыскал и твой угрюмый труп.
О, просторы городских окраин,
Нищету давящая пята, —
Вас не должен нищий неприкаянный
Гибелью своей оклеветать!
Вы манили, звали, уводили,
И не вы ль виновны, что тоской
Повседневной ядовитой пыли
Отравил нас сумрак городской.
Поезд прогрохочет, как гекзаметр
Одиссеи. На него с бугра
Дети смотрят жадными глазами,
Пыльных одуванчиков набрав.
И вдовец с сироткой синеглазой
Не сюда ль из города придет,
Чтобы слушать гулкие рассказы
Ветра про свободу и полет.
И поверит… И опять подтянет
Волю, как судно на якоря,
Вкрадчиво приласканный когтями,
Железнодорожными путями
Перерезанного пустыря.
Посвящается П. Любарскому
Маленький ленивый городок,
Снежный, синеватый и лукавый,
Под ногой свежо хрустит ледок,
В высоте златятся свечи-главы,
И плывет на волнах красной лавы
Солнышко — корабль усталый в док.
Отзвонили. Женский монастырь
За рекой волнами затихает.
Собрались собаки на пустырь;
Жмутся, вьются, ни одна не лает,
И ползет с Заречья нежилая
Тишина — осенний нетопырь.
Засветились окна. Силуэт
Сдернул занавеску на окошко.
Вздрогнул луч, вонзив в сугроб стилет.
Прошмыгнула зябнущая кошка,
А метель скользит сороконожкой
И порывом звякает в стекле.
Я иду с вокзала. Петроград
Бросил поезд в зимние просторы…
Вон огни вагонные горят
Сквозь стекло, задернутое в шторы,
Но уже иные в сердце шпоры,
А во рту мороз — как виноград.
Скрип полозьев. Обувь просквозив,
Холод жжет неопытные пальцы,
Но — конец, приют уже вблизи:
Скоро в тихом бабушкином зальце,
Где в углу, как призрак, дремлют пяльцы,
Буду пить какао тетки Зи…
Утром солнце в замерзших стеклах
Водит танцы игруний-искр.
Печку, гремя, затопила Фекла,
Выбросив вьюшки копченый диск.
Холод рубашки приятно зябок,
Дрожкую бодрость когтит мураш.
Мускул бицeпса, как крепкий яблок, —
Что же под вечер, коль так с утра?
Даже вода, где ланцеты льдинок,
Кажется нежно зовущей в бред.
Отблески солнца и блеск ботинок
Радуют, ровно в осьмнадцать лет.
Булка и масло. Скрипящий творог.
Скромный племянник, крепыш бутуз.
Мир осязаем, он прост и дорог,
Сердце же — дерзкий козырный туз…
Ешь, словно пишешь (уписан коржик),
Губы танцуют, в глазах усмех.
Каждая радость здесь как-то тверже:
Всё для тебя, если сам для всех.
В переулке тишина мороза,
Белый, ровный, безмятежный блеск,
А на небе золотая роза
Или Спас на белом корабле.
Скатанный метелью, не раскатан,
Лег пушисто путь к монастырю,
Что, прижавшись к розовому скату,
Смотрит на вечернюю зарю.
Не ему несу свое веселье,
Твердость щек и кровь озябших губ,
Пробираясь межсугробной щелью
К флигелю, зарытому в снегу.
В сенях приятный запах ветчины,
Согретых шуб и пирога с капустой.
В столовой им сейчас увлечены,
И потому пока в гостиной пусто…
Стремительно отброшены драпри.
«Конечно, вы! Я знала, знала очень:
Вчера о вас держала я пари».
Сверкнувший взор на миг сосредоточен
В моих глазах — и быстрый взмах ресниц…
В столовую, уже надев личину,
Вступаешь ты походкой баловниц,
Танцующих старинный танец чинный.
Там папенька, веселый казначей,
Уже пять раз заглядывавший в стопку,
Предложит мне великолепных щей
И вышибет ударом ловким пробку.
Он говорил: «Помещик и гусар,
На этот лад подобен будь индейцам».
(Его сожрал какой-то комиссар,
Назвав тупым и злым белогвардейцем.)