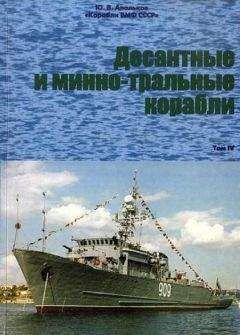Её лицо сменяет темноту в самом начале дня.
Она во мне утопила девушку, и старуха,
с каждым днём все ясней,
выплывает теперь из меня,
как жуткая рыбина - прямо к ней.
23 октября 1961
Десять лет минуло с тех пор, как к Детскому Острову, помню,
Мы приплыли. Солнце горело на волнах у Марблхеда.
Чтобы скрыть заплаканные глаза, мы ходили в тёмных очках всё лето,
Две названых сестрёнки. Постоянно мы плакали в своих комнатках,
Там, в Свипскотте, в двух виллах белых, огромных.
А когда прибыла из Англии эта милашка с её дорогой косметикой,
Мне пришлось спать в одной спальне с ребёнком, на короткой кушетке.
Помнишь, ей даже на улицу выйти не хотелось, балованной семилетке,
Если полоски на её носках были не того цвета, что на жакетике.
Вот это богатство! Одиннадцать комнат! И яхта белая,
Полированная лесенка красного дерева с кормы в море,
И стюард, который умел украшать торт кремом шести цветов!
А меня дети вгоняли в тоску, да и готовить совсем не умела я,
А ночами в дневник записывала всю злость и горе
Пальцами красными, с треугольными ожогами от утюгов:
Приходилось разглаживать мелкие рюшки, рукава-фонарики, а пока
Пижонка-хозяйка с мужем-доктором на яхте плавали,
Они "для защиты" мне горничную, у кого-то одолженную, оставили,
Которую звали Элла, и ещё далматинца-щенка.
Тебе было лучше: не на вилле, а в постоянном
Доме с розарием, с аптекой внизу и коттеджем для гостей.
В доме жили горничная и кухарка. Ты бренчала на фортепьяно
"Истамбул"* (когда "больших" дома не было), и от бара ключей
Никто не прятал.
Горничная, куря, раскладывала пасьянс под зелёной лампой,
А у кухарки косил один глаз. Она не спала ночами,
Потому что взяли её с испытательным сроком, неуклюжую ирландку,
И у неё, что ни день, горело в духовке печенье.
Её потом уволили.
Что же с нами произошло, сестрёнка?
В тот выходной, о котором мы так долго просили,
Взяли мы напрокат старую зелёную лодчонку,
Кучу ветчины и ананас из хозяйского холодильника стащили.
Я гребла. Ты читала мне вслух "Ярмарку тщеславия",*
Ноги скрестив на корме. На острове не было никого.
Сколько скрипучих веранд и заброшенных комнат мы там облазили!
Они выглядели замершими и жуткими, как фотография,
На которой кто-то ещё смеётся,
хотя, наверно, и на свете давно уже нет его.
Над крылечками наглые чайки курлыкали как хозяйки,
Мы отгоняли их палками, подобранными под рыжей
Сосной. А потом спустились к воде. Густая
Солёная вода держала. Как сегодня вижу -
Мы, словно две неразлучные пробковые куклы, качаемся.
Сквозь какие же замочные скважины мы проскочили, подруга?
Какие двери за нами захлопнулись, и пропали ключи?
Тени трав, как стрелки, бегут и бегут по кругу,
С противоположных континентов машем мы и кричим.
Целая жизнь миновала...
29 октября 1961
Чёрное озеро. Чёрная лодка.
Наши два силуэта
Вырезаны из чёрной бумаги.
Чёрные деревья пьют на ходу из этого
Озера... Их тени уже в Канаде.
Лёгкий свет сочится из белых кувшинок.
Круглые листья полны невнятного смысла,
Им не хочется, чтобы мы спешили -
И мы подымаем вёсла,
С весла ледяные планеты
Скатываются неизвестно куда...
Дух черноты и в нас, и в рыбах, и в этой
Коряге, которая прощается навсегда...
Между кувшинками
Распахиваются звёзды.
Не ослеп ли ты
от свеченья этих молчащих русалок,
Этих душ, изумлённых нашествием темноты?
4 апреля 1962
Рут Файнлайт
Я знаю глубину. Я в неё проникла
Корнем. Но ты боишься глубин.
А я не боюсь - я там была, я привыкла.
Может, во мне ты слышишь море?
Неудовлетворённость его? Или верней,
Голос пустоты, твоего сумасшествия?
Любовь - только тень. Ну не плачь по ней!
Послушай: её копыта всё тише,
Она ускакала - табун коней...
Всю ночь вслед за ней буду скакать... Ты услышишь -
И голова твоя станет камнем,
Останется эхо, эхо, эхо...
А хочешь услышать, как звучит отрава?
(Это не я, это ветер, ветер!)
Это не яд - капли дождя...
Я пережила не один закат,
Я до корня опалена,
Красные нервы горят и торчат.
Я разрываюсь на куски,
Они разлетаются во все стороны,
Ветер такой - не перенести!
И я не в силах не закричать.
Луна безжалостна, она меня тянет,
Она - жестокая и пустая!
Её сиянье меня убивает -
А вдруг, это я её поймала?
Ну, отпускаю её, отпускаю -
Она ведь плоская, и такая малая...
Как же твои страшные сны
Овладевают мною? Ответь!
Во мне всё время крик твой живёт,
Ночью взлетает он, хлопая крыльями,
Когти хищно ищут, что полюбить!
Я так боюсь невнятного, тёмного,
Что спит во мне. И целый день я
Чувствую мягкие перистые шевеленья
Зла. Облака проплывают и исчезают,
Не облака - лики любви.
И я вся дрожу оттого, что они...
Мне не вместить в себя большее знанье...
Что это, что это, чьё это лицо?
Смертоносное в паутине ветвей,
Змеиный яд его поцелуев
Парализует волю. Бывают
Очень мелкие повседневные ошибки,
Но они убивают, убивают, убивают...
19 апреля 1962
Так что же она делала, когда взорвалось там,
За тридевять полей, за тридесять холмов?
Расставляла чашки? Важнейшая деталь!
И, возможно, прислушивалась к чему-то за окном...
Тут поезда будят резкое эхо - вопли души, поддетой крючком!
Это долина смерти, хотя коровы жиреют отменно.
А в саду у неё ложь за ложью отряхивали мокрые шелка,
И глаза убийцы скашивались вбок довольно медленно,
Они не в силах были взглянуть на пальцы, пока
Те вдавливали женщину в стену.
Тело - в трубу. Подымается дымок.
В кухне запах сожжённых лет.
И ложь рядом с ложью, как семейные фото на стене -
Не забыт ни один портрет:
Гляньте хотя бы на улыбку вот этого человека.
Орудие убийства? А ведь трупа нет!
Никакого трупа во всём доме.
Ворсистые ковры. Запах мастики.
Радио разговаривает, как старый дядюшка, само с собой.
Солнце в красной комнате.
Блеск лезвий - отражённые блики.
Вот так хулиган, скучая, поигрывает зеркальными лучами...
Однако, что ж это было? Нож? Или яд? Но какой?
Парализующий, спазматический? Или удар тока? Вот:
Преступленье есть, а трупа-то нет! Странная история:
Труп вообще не имеет к этому никакого отношения.
Я думаю, всего верней испаренье. Сначала исчез рот:
Об этом сообщили, но не ранее, чем через год.
Он был ненасытен. В наказание его подвесили,
Чтобы ссыхался и сморщивался как яблоко.
Потом груди. С ними было трудней - два белых булыжника.
Молоко сначала жёлтое, становилось всё белей, голубей,
Наконец - как вода. Осталась улыбка.* И ещё двое детей:
Их кости были сначала видны. Скалилась луна. Сухая доска,
Тёплая вскопанная земля. Дом, сад, ворота.
Нет, Ватсон, всё это - вилами по воде...
всё на песке. А песка...
Только фосфоресцирует мумия луны. На дереве сидит ворона.
Запишите, Ватсон.
1 октября 1962
Кто-то там
во что-то там
стреляет, стреляет
На воскресной улице: пиф-паф, пиф-паф.
Ревность? Она может ведь и кровь пустить,
И чёрными розами воздух расцветить.
Кто же и в кого же - пиф-паф, пиф-паф?
На тебя, Наполеон,
пики нацелены:
(Ватерлоо, Ватерлоо - где-то впереди!).