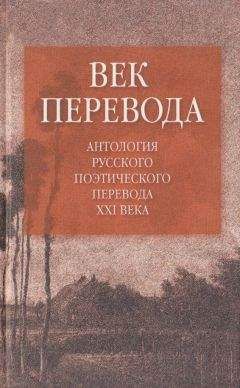Капли
О светлячочки,
Вы — точно точки
В ночи, и вновь
Гореть вы рады,
Как световклады
В саму любовь.
Вы на полянке,
Мои светлянки,
Огни полей!
И как вы падки
Зажечь лампадки
Ночных лилей!
И, как дождинки,
Ронять звездинки
Привыкли вы,
Их с высей сея, —
Рой эмпирея
На ткань травы.
От светоока
Блестит осока,
Мерцает лес,
И зелень нивы
Глядит ревниво
На синь небес…
Рой искроточек
Я на листочек
Собрал — и вот
Здесь, на поляне,
Так мил Диане
Ваш хоровод,
Когда несутся
С огнем сосудцы
Из темноты,
Огнепрыгуньи,
Светомигуньи,
Светоцветы.
Я запер зал опять и поприбрал покои, —
У барского добра без сна мне ночевать.
У пса — и у того есть время для покоя:
Врастяжку на плите он может почивать.
Закрыл водопровод, поставил в шкаф посуду,
И платье вычистил, и лампу я зажег,
И в тихой темноте под лестницею буду
Теперь ронять слезу на черствый свой кусок.
Мне отдых, Господи, сужден лишь на кладбище,
Впервые для меня зов будет мил и прав,
Когда откликнусь я, лежа в гробу на днище,
Тебя, о Господи, хозяином назвав.
ПОЛЬ ЖЕРАРДИ{266} (1870–1933)
Стрелок теней, схвативши в руки
Свой лук, с колчаном за спиной
Проходит лес, где дремлют звуки,
Когда густеет мрак ночной.
Ему собачьи очи светят,
А черный пес с ним рядом — бес.
Его зачуют и заметят
И волк, и вепрь, укрывшись в лес.
Трясясь от страха, в чаще горной
Охотник черный с черным псом
Идут так тихо ночью черной,
Не видя ничего кругом.
Пес бродит травами густыми,
И в ночь уставился стрелок;
Из дали следует за ними
Большой бродячий огонек.
Стрелок и пес ночи и тени
Всегда пройдут наперерез,
И человек — во тьме видений,
А черный пес с ним рядом — бес.
ФРИДРИХ ГЁЛЬДЕРЛИН{267} (1770–1843)
Ты жизни ищешь — брызжет искателю
В лицо огонь подземный божественный.
И, содрогаясь от желанья,
Ты низвергаешься в пламя Этны.
Царица так же гордо жемчужины
В вине топила. Пусть! Но зачем же ты,
Поэт, свой дар — твое богатство
В чашу кипящую тоже кинул?
И всё ж святым пребудешь мне, дерзостный,
Как власть земли, тебя восприявшая.
Не удержи любовь — и я бы
Ринулся в бездну вослед герою.
Под сенью мирно пахарь у хижины
Сидит, и мил и люб ему дым родной,
А путнику гостеприимно
Колокол сельский звонит под вечер.
Суда уж, верно, тянутся к гавани,
В далеких градах весело рыночный
Смолкает шум; в беседке тихой
Перед друзьями сияют яства.
А что же я? Трудом да наградою
Живет всяк смертный, чредуя радостно
Труды и отдых. Что ж не дремлет
Лишь у меня только в сердце жало?
В вечернем небе розы рассеяны,
Весна в цвету, сияет мир золотом.
Спокойно. О, меня вздымите,
Тучи багряные, — пусть на высях
В сияньи сгинут страсть и страдания!
Но прелесть, слыша просьбу безумную,
Исчезла. Смерклось. И, как прежде,
Вновь одинок я под небом темным.
Приди ж, дремота! Слишком ведь многого
Взыскует сердце. Минешь ты, молодость,
Мечтательницей неуемной, —
Старость же мирной и светлой будет.
Зефиры! вас, посланцев Италии,
Меж тополями речку любезную,
Волнистость гор и вас, вершины,
В солнечном блеске я снова ль вижу?
Приют спокойный, в мечтах являлся ты
Во дни отчаянья мне, грустящему,
И ты, мой дом, и вы, деревья,
Давние други мои по играм.
Давно, давно уж покой младенческий
Пропал; исчезло счастие юности,
Но ты, о родина, священно —
Терпица, ты мне одна осталась.
И потому растишь ты детей своих,
Что вместе ваши горе и радости,
И в снах неверных манишь, если,
Странствуя, бродят они далёко.
Когда в груди горячей у юноши
Заснут желания своенравные,
Смирясь пред роком, — тем охотней
Грехоотпущенник возвратится.
Прости же, юность, и ты, любви тропа
В прекрасных розах! Вы, тропы странника,
Прощайте! Жизнь мою возьми ты,
Благословив, о, отчизны небо!
ЭСАЙАС ТЕГНЕР{268} (1782–1846)
Греческий
Музе всех ты милей, ее родное наречье.
Жил ты в устах у харит и олимпийских богов.
Преданно, словно хитон к деве-купальщице, льнешь ты
И не скрываешь ты чувств, мыслям давая простор.
Латынь
Голос твой резок и чист, как звоны мечей закаленных,
Твердо и властно звучит — завоевателя речь.
Горд, непреклонен и нищ, половиной Европы из гроба
Повелеваешь, и тут римлянин слышен опять.
Итальянский
Томность и сладость в тебе, ты голос изнеженный флейты,
В пении вся твоя суть, каждое слово — сонет.
Голубь влюбленный, воркуй о радости и о томленьи.
Только беда, что поют лучше всех в Риме скопцы.
Испанский
Верно, красив ты и горд. Я не знаю тебя, но иные,
Так же не зная, тебя в Швеции превознесли.
Французский
Скачешь ты, вздор лепеча, и врешь, комплиментами сыпля,
Но пустословье твое лестно и сладостно нам.
Если ты между сестер перестал нам быть за царицу,
Светскую даму зато мы почитаем в тебе.
Но пощади нас — не пой, так только глухие танцуют:
Ноги проворны у них, такта же им не слыхать.
Английский
Ты, о язык для заик, где каждое слово — зародыш,
В речи твоей всегда по полуслову взаглот.
Всё-то в стране у тебя машинным движется паром.
Ну-ка, дражайший, пристрой двигатель и к языку.
Немецкий
Груб, здоров, мускулист — в лесу взращенная дева,
Гибок притом и красив. Только вот ротик широк.
Да поживее бы быть. Флегму оставь, чтоб начало
Фразы нам не позабыть, прежде чем кончишь ее.
Датский
Мне ты не по душе. Для северной силы ты нежен
И северянин еще ты для приятства южан.
Шведский
Славы геройской язык! Благородство и мужество в слове!
Чище металла твой звон, поступь же солнца верней.
Ты на вершинах живешь, где бури беседуют с громом,
Создан он не для тебя — низменный дола соблазн.
В море скорей посмотрись и чуждые смой ты румяна
С черт своих мужественных, если ты не опоздал.
Скажи, ты помнишь, как в апреле
Пришла блаженная пора,
Когда сердца у нас горели
Взаимным пламенем с утра?
Часов утраты не считаю,
Злой бог какой-то счел их, но
Во глубине души вздыхаю:
«Давным-давно! Давным-давно!»
Потом пришла пора иная:
Ты холодна. Зачем — Бог весть.
Но был я счастлив, вспоминая,
И мнилось: друг мне всё же есть.
Жать руку и искать участья
Мне было все-таки дано,
И в этом тоже было счастье,
Но как давно! Давным-давно!
Ужель теперь не только милой,
Но даже друга нет? Дохни
На угли, на костер остылый,
Скажи: в нем есть еще огни!
Верни же мне себя былую,
Со мной будь снова заодно
И поцелуй, пока тоскую:
«Давным-давно! Давным-давно!»
ГУСТАВ ФРЁДИНГ{269} (1860–1911)