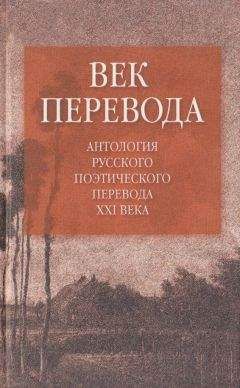ГУСТАВ ФРЁДИНГ{269} (1860–1911)
Радехонек, заяц, пришипясь, сидит:
«Черникою я закусил — и сыт».
Лиса из-за кустика зайку хвать!
Рада-радешенька: «Вот благодать!»
Сиди себе знай, наедайся.
Вот песня про зайца.
И, морду себе облизав, лиса
Идет на досуге гулять в леса.
В лесу охотник с ружьем проходил.
Выстрелил он и в лису угодил.
Скакнула лисица в последний раз…
Вот и весь лисий сказ.
Охотнику нынче сам черт не брат:
«Потешил я душу! Уж рад так рад!»
А дома-то в кофий исподтишка
Карга подсыпает ему порошка.
И помер он, выкушав кофий охотненько.
Вот быль про охотника.
«Украшены ножны, как будто
Лемносский сработал их бог!
И мастер же ты, Бенвенуто!
А ну, покажи клинок!»
Стоял, улыбаясь, Челлини,
Приятелей внемля гул.
«Нам гордость Феррары ныне
Яви!» И клинок блеснул.
«Вот это — всем шпагам шпага!
Я с ней везде устою.
С такой поможет отвага
Пробиться в любом бою.
В бесстыжих глотках заколет
Насмешку клинок стальной.
Я буду биться, доколе
Не рухну к стене спиной.
Искусство свое и подругу
Сумею я с ним защитить
И, держа на эфесе руку,
В честь верного друга пить».
А та, что вином обносила,
Бледнела молча, но вдруг
Зарделась она и спросила:
«А кто же твой верный друг?»
Ответил он: «Дружба в море
Бежит, как Тибра струя,
А друг мой в беде и горе,
Верный мой друг — это я».
И поднял с подноса кружку,
И в ножны клинок вложил,
И обнял со смехом подружку,
И целовал, и пил.
«А что есть истина?» — наместник римский
Спросил; однако, ключ к загадке сей
Храня безмолвно и зажав зубами,
В подземный мрак спустился Назорей.
Но истина профессорам премногим
Вполне ясна. Какая благодать!
Их — легион, они ответ сумели
Скептическому римлянину дать.
Как странно всё ж, что истина едина,
А так менять умеет цвет и вид.
Что истинно в Иене иль Берлине,
То в Тейдельберге только удивит.
И словно слышу — Гамлет водит за нос
Полония игрою в облака:
«Вот это выглядит совсем верблюдом,
А это так похоже на хорька».
БУ БЕРГМАН{270} (1869–1967)
Таскает хлам по базару
с любой весенней поры.
В калено-синее небо
красные рвутся шары.
Берите мячи и дудки!
Тяните на счастье билет,
который хромым размером
сочинял безвестный поэт!
Ах ты, заморский бездельник!
Черномазый ты чародей!
Знакомьтесь, синьор коробейник,
с рукой и песней моей.
И у меня есть дудка,
и я на базаре стою,
наигрывая покуда
старую песню свою.
Но шарики отвязались,
дали тягу уже давно,
улетели с весенним ветром
в голубое небо на дно.
Видел мальчик, как плавал шарик
в выси солнечно-разлитой.
Этот шарик был мой последний,
тот, который надут мечтой.
По ухабистой прозе таскаю
с предсказаньем стихи вразнос,
всем пишу билеты на счастье,
а себе писать не пришлось.
Мой Бог, ты ясный день и свет.
Так просвети мой дух и взор,
вложи мне в душу твой завет,
спустись ко мне с небес и гор.
Боюсь, как смертного греха:
сразит тебя моя тоска —
не в день борьбы, не в день стиха,
а в ночь, которая близка.
Устало зыблется наш след.
И кто ж я, если получу
от черной тени тот ответ,
что свету был не по плечу?
А если всё, что я любил,
сбежит под страхом бед и нужд,
тогда прости! Ведь это был
тот, кто неведом мне и чужд.
Сидел я ночью в тишине, но был обут.
До полночи осталось только пять минут.
Шаги послышались на улице, и тут
пробило полночь, и я понял: «Заберут!»
Звериными шагами шел вокруг конвой,
звериный взор пронзал, как нож во тьме ночной.
Уволокли под улюлюканье и вой
на следствие и на расправу под землей.
Сидел я годы, но я вытерплю напасть,
поклонов силе всё равно не стану класть.
Они ждут попусту. Честь знает свою часть,
и правде пережить дано любую власть.
Да будет Бог твой то, что сделает сильней
тебя и не отдаст на милость дикарей.
За тени принимаю я теперь людей,
а человеческое вижу у теней.
Ко мне приходят тени в гости с давних пор.
Джордано Бруно тихо всходит на костер,
и Марк Аврелий руку дружески простер
к юроду жалостному с Галилейских гор.
А подлость с глупостью есть двойни тьмы и зла.
Как лапы осьминожьи, вьются их дела.
Пусть время нам тюрьма, но кой-кому дала
судьба, чтоб вознестись над временем, крыла.
Чти память тех, чья кровь за правду пролита,
вой черни прегради презрением щита.
И помни, не страшась ни копий, ни креста,
что правда даже и распятая свята.
НИЛЬС ФЕРЛИН{271} (1898–1961)
На самой последней миле
по курсу ост-вест-зюйд-норд,
усадьбою в Миднайт Хилле
жил-был эксцентричный лорд.
В Китае живал он и в Индии,
знавал африканский зной,
а волосы заиндевели,
когда вернулся домой.
Искал он повсеместно,
в трущобах любой страны
давным-давно известное —
что всё и ничто равны.
Ходил он охладелый,
глядел как бы поверх крыш,
а ночью то и дело
дымился в трубке гашиш.
На зорьке самой обычной,
пока петух не будил,
под дубом лорд эксцентричный
последний вздох испустил.
То было весной. Веселая
галдела в селе молодежь,
цвели анемоны, но голые
руки дуба кидало в дрожь.
На футы и дюймы привычной
и точной измерен рукой,
отправился лорд эксцентричный
вкушать последний покой.
И в алчной и грозной глине
его поглотила тишь…
Вовек не закурится, ныне
и присно, в трубке гашиш.
Живет он прахом во гнили,
а небо над ним светло,
а солнце светит могиле,
а солнце светит в село.
Как встарь, у британских прибрежий
стрижи и чайки кружат,
и те же бамбуки, те же
в далекой стране шуршат.
Таков был лорд эксцентричный
в поместье родовом.
Поместье мясник столичный
купил и надстроил дом.
В автобусе или в чайной
отличны от прочих лиц:
излучается необычайный
свет из глубин глазниц.
Иконоборцы! И ночью
в промерзлой воде они
трепещут, но ищут воочью
неведомое искони.
Мы рады бы их под засовы,
но их удержать не моги:
и мельницы им, и совы —
извечные наши враги.
На речах воспаряют в небо…
Мы тоже бы вознеслись,
но нам поближе к земле бы:
уж тут не грохнешься вниз.
Сперва замолкло всё село:
проклятую комету
как по заказу принесло
на ужас белу свету.
Вот знамение, что разгул
ведет к воротам ада.
Час Божьей милости минул,
и поразмыслить надо.
Довольно сирых притеснять
и гнать их от порога!
Пора законы исполнять
и даже верить в Бога.
Засели за календари
и со слезой во взоре
вздыхали — черт их подери! —
что мир-де иллюзорен.
И били бедняку поклон
с улыбкою елейной,
и без обвесу десять ден
трудились в бакалейной.
Смиренней и тупей овец
в Писание глядели.
Но им сказали наконец:
«Прошло уж три недели».
И закричали тут они:
«Нет, мир еще прекрасен!
Что ж горевать нам в эти дни
из-за церковных басен?
Луг серебрится от росы,
и зайка скачет шалый…
Давай-ка, старые весы
тащи скорее, малый!»
И снова шум у торгашей,
забыты сразу беды,
и снова бедняков взашей,
а знатных — на обеды.
И на пирушке старики
хмельную речь держали,
и пили годам вопреки,
и над молвою ржали.
И говорили — вот комедь! —
сопя взасос сигарой:
«Оборони и окометь
нас плеткой и гитарой!
Что страхи! Плюнь да разотри!
Не так уж скверно это.
Теперь за месяц раза три
является комета.
Она то здесь, то там, копьем
пронзая небо тупо.
А мы за день насущный пьем,
и нам Господь — заступа».