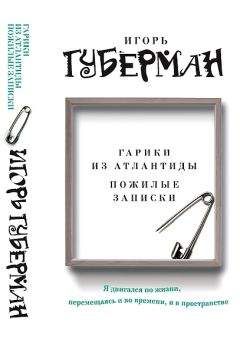779
Вспоминая о времени прожитом,
я мотаю замшелую нить,
и уже непонятно мне, что же там
помешало мне сгинуть и сгнить.
— Как чуден вид Альпийских гор! —
сказал Василию Егор.
— А мне, — сказал ему Василий, —
милее рытвины России.
Я с покорством тянул мой возок
по ухабам той рабской страны,
но в российский тюремный глазок
не с постыдной смотрел стороны.
Россия уже многократно
меняла, ища, где вольготней,
тюрьму на бардак и обратно,
однако обратно — охотней.
Подлая газета душу вспенила,
комкая покоя благодать;
Господи, мне так остоебенело
бедствиям российским сострадать!
В России сегодня большая беда,
понятная взрослым и чадам:
Россия трезвеет, а это всегда
чревато угаром и чадом.
В России знанием и опытом
делились мы простейшим способом:
от полуслова полушёпотом
гуляка делался философом.
Прошлых песен у нас не отнять,
в нас пожизненна русская нота:
я ликую, узнав, что опять
объебли россияне кого-то.
Мы у Бога всякое просили,
многое услышалось, наверно,
только про свободу для России
что-то изложили мы неверно.
Весной в России жить обидно,
весна стервозна и капризна,
сошли снега, и стало видно,
как жутко засрана отчизна.
А Русь жила всегда в узде,
отсюда в нас и хмель угарный:
ещё при Золотой Орде
там был режим татаритарный.
Видно, век беспощадно таков,
полон бед и печалей лихих:
у России — утечка мозгов,
у меня — усыхание их.
Уже былой России нет
(хоть нет и будущей покуда),
но неизменен ход планет,
и так же любит нас Иуда.
Две породы лиц в российском месиве
славятся своей результативностью:
русское гавно берёт агрессией,
а гавно еврейское — активностью.
Когда Российская держава,
во зле погрязшая по крыши,
на лжи и страхе нас держала,
у жизни градус был повыше.
Клюя рассеянное крошево,
свою оглядывая младость,
я вижу столько там хорошего,
что мне и пакостное в радость.
Дух воли, мысли и движения
по русской плавает отчизне,
а гнусный запах разложения
везде сменился вонью жизни
Среди российских духа инвалидов
хмельных от послабления узды,
я сильно опасаюсь индивидов,
которым всё на свете — до звезды.
Худшие из наших испытаний
вырастились нашими же предками:
пиршество иллюзий и мечтаний
кончилось реальными объедками.
Забавно, что в бурные дни
любую теснят сволоту
рождённые ползать — они
хватают и рвут на лету.
Не чувствую ни света, ни добра
я в воздухе мятущейся России,
она как будто чёрная дыра
любых душевно-умственных усилий
Я вырос в романтическом настрое,
и свято возле сердца у меня
стоят папье-машовые герои
у вечного бенгальского огня.
Увы, в стране, где все равны,
но для отбора фильтров нет,
сочатся суки и гавны
во всякий властный кабинет.
При папах выросшие дети
в конце палаческой утопии
за пап нисколько не в ответе,
хотя отцов — живые копии.
Всегда бурлил, кипел и пенился
народный дух, и, мстя беде,
он имя фаллоса и пениса
чертил воинственно везде.
Понятие фарта, успеха, удачи
постичь не всегда удаётся:
везде неудачник тоскует и плачет,
в России — поёт и смеётся.
Свобода обернулась мутной гнусью
всё стало обнажённей и острей,
а если пахнет некто светлой Русью,
то это — засидевшийся еврей.
На всех осталась прошлого печать,
а те, кто были важными людьми,
стараются обычно умолчать,
что, в сущности, работали блядьми.
Свободу призывал когда-то каждый,
и были мы услышаны богами,
и лёд российский тронулся однажды,
но треснул он — под нашими ногами.
Присущий и воле, и лагерным зонам,
тот воздух, которым в России дышали,
ещё и сейчас овевает озоном
извилины шалых моих полушарий.
Чего-нибудь монументального
всё время хочется в России,
но непременно моментального
и без особенных усилий.
Всё так сейчас разбито и расколото,
оставшееся так готово треснуть,
что время торжества серпа и молота —
стирается, чтоб заново воскреснуть.
Тягостны в России передряги,
мёртвые узлы повсюду вяжутся;
лишь бы не пришли туда варяги —
тоже ведь евреями окажутся.
Ход судьбы — как запись нотная,
исполнитель — весь народ;
Божья избранность — не льготная,
а совсем наоборот.
Воздух ещё будет повсеместно
свеж, полезен жизни и лучист,
ибо у России, как известно,
время — самый лучший гавночист
Россия свободе не рада,
в ней хаос и распря народов,
но спячка гнилого распада
сменилась конвульсией родов.
Хоть густа забвения трава,
только есть печали не избытые:
умерли прекрасные слова,
подлым словоблудием убитые.
А прикоснувшись к низкой истине,
что жили в мерзости падения,
себя самих мы вмиг очистили
путём совместного галдения.
Всюду больше стало света,
тени страшные усопли,
и юнцы смеются вслед нам,
утирая с носа сопли.
Как витаминны были споры
в кухонных нищих кулуарах!
Мы вспоминали эти норы
потом и в залах, и на нарах.
Мы свиристели, куролесили,
но не виляли задним местом,
и потому в российском месиве
дрожжами были, а не тестом.
Кто полон сил и необуздан,
кто всю страну зажёг бы страстью —
в России мигом был бы узнан,
однако нет его, по счастью.
Настежь раскрыта российская дверь,
можно детей увезти,
русские кладбища тоже теперь
стали повсюду расти.
Хотя за годы одичания
смогли язык мы уберечь,
но эхо нашего молчания
нам до сих пор калечит речь.
Народ бормочет и поёт,
но пьяный взгляд его пронзителен:
вон тот еврей почти не пьёт,
чем, безусловно, подозрителен.
Берутся ложь, подлог и фальшь,
и на огне высокой цели
коптится нежный сочный фарш,
который мы полжизни ели.