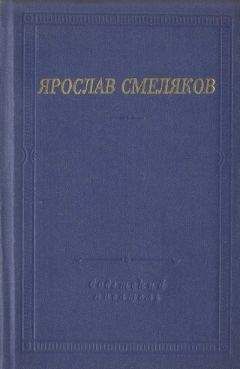353. «Дорогой жизни долго я шагал…»
Дорогой жизни долго я шагал
и вот уже почтенным мужем стал.
Вдали, вдали, меж гор и средь степей,
остались годы юности моей.
Есть у казахов старый разговор,
что, дескать, время действует, как вор,
и каждый месяц или каждый год
то то, то это у тебя крадет.
Ход времени, желая честным быть,
я не могу и не хочу хулить.
Я этих слов не стану повторять —
несправедливо время упрекать.
Ты, моего не погасив огня,
взяло стихи и песни у меня,
но их отнюдь не бросило во мгле,
а подарило людям и земле.
Пусть у меня пробилась седина —
зато листва деревьев зелена.
И есть цветенье юности моей
в цветении предгорий и степей.
Теченье лет, что прожил человек,
повторено теченьем новых рек,
волненье мысли яростной моей
есть в волнах нами созданных морей.
Земля моя! Железо и цветы!
Я постарел — помолодела ты.
Но молодость ушедшую свою,
Республика, в тебе я узнаю.
<1957>
Мы в город, едва различимый вдали,
шагая с трудом, наконец-то вошли,
как словно бы тот сирота-верблюжонок,
что еле плетется в дорожной пыли.
Нестройно по теплым с утра мостовым
мы шли босиком за вожатым своим,
прохожие сразу же нас понимали
по грязным рубахам и шапкам худым.
В том доме, куда привели сорванцов,
ютилось немало таких же мальцов,
и вскоре уже на дворе мы шумели,
все в белых рубашках, как стайка птенцов.
Я в первый же день, беззащитен и мал,
впервые лицо Ильича увидал,
почувствовал в нем доброту и защиту
и сразу сильней и уверенней стал.
Он прямо глядел на меня, как живой,
дыша теплотой и светясь добротой.
И, солнцем улыбки его согреваясь,
забыл я, что был до сих пор сиротой.
<1958>
Два тюка на верблюде,
путь дымится песком.
Едет девушка в люди,
в незнакомый ей дом.
Едет, бедная, грустно,
мысли душу когтят,
слезы — крупные бусы —
на ресницах блестят.
«Ах, невеста-бедняжка,
видно, ей тяжело!..
Не воротится пташка
под родное крыло».
Много праздных советов
раздается в пути:
«От дороги от этой
никому не уйти…»
Все ее по дороге
утешают кругом:
«Будешь жить без тревоги
за таким богачом!»
Но она в огорченье
слезы льет второпях,—
что ей в тех утешеньях,
что ей в этих словах?
Что ей скот и халаты,
если страшен навек
тот чужой, бородатый,
дряхлый тот человек?!
<1958>
Полвека я не без труда
уже прошел путем крутым,
но для народа навсегда
хочу остаться молодым.
Пускай приметна седина —
примет я этих не боюсь:
ведь для тебя, моя страна,
я только сыном остаюсь.
И твердо знаю, что и впредь,
крепя союз безмолвный наш,
ты не позволишь мне стареть,
душой погаснуть мне не дашь.
Я у тебя еще в долгу.
Служить тебе я жизнью рад.
Быть лежебокой не могу,
хоть мне уже и пятьдесят.
Пусть не иссякнут никогда
любовь и труд — всё, чем горжусь.
Я, словно мальчик, сквозь года
к тебе, как к матери, тянусь.
<1958>
Когда еще был я мальчишкой вихрастым,
любви и поэзии вовсе не знал,
дыша учащенно и радостно, часто
верхом по степи я, как ветер, скакал.
Однажды в ту пору, в то давнее время,
костер я увидел в родимых краях
и вдруг услыхал, придержав свое стремя,
как пел о любви седовласый казах.
Откуда пришла, появилась откуда
ты, русская песня, в безбрежье степей?
Письмо русской девушки — это ль не чудо!
поет по-казахски степной соловей.
Глаза старика застилались туманом,
мерцали волшебные вспышки огня,
и женщина с именем русским Татьяна —
любовь и стихи — покорила меня.
С тех пор эта песня не раз мне звучала,
и слышало радостно ухо мое,
как эхом весенняя степь повторяла
протяжные, нежные строки ее.
Слыхал я, как пели с волненьем глубоким
в колхозных аулах, в счастливом краю
джигиты степей для подруг чернооких
посланье Татьяны, как песню свою.
Я знаю, как в пору цветенья ромашки,
в ту пору, когда зацветает трава,
влюбляются вслед за Татьяной казашки
и шепчут ее золотые слова.
Абай наш, мы трижды тебе благодарны
за то, что ты русское слово любил
и щедрой рукою, как свет лучезарный,
поэзию Пушкина нам подарил.
Наш Пушкин! Еще в те далекие годы,
когда нас в оковах держал произвол,
ты с песней любви и стихами свободы
в казахскую степь, словно к братьям, пришел.
Народ мой тебя с восхищением слушал:
ты мыслью казахскую мысль разбудил,
ты русское сердце и русскую душу,
как двери в свой дом, перед нами раскрыл.
Нет равного Пушкину в мире поэта
и песен, которые так бы цвели,
как нету на свете прекраснее этой,
родившей нам Пушкина, русской земли.
<1949>
358. МАЛЫЙ ТУРКСИБ
(Поэма)
Сегодня исполнилось мне тридцать шесть.
Не хочется мне в самохвальщики лезть,
но нашей Республики быть одногодком —
большая удача, немалая честь.
Не зря для меня эти годы прошли:
они не растаяли где-то вдали,
они раскрывались, подобно тюльпанам,
как дети большого семейства, росли.
Я сути своей биографии рад.
Пусть зрелые песни сегодня звучат —
всю жизнь вспоминая, их честно слагаю,
как бывший юнец и бывалый солдат.
В степи я родился, в степи подрастал,
в степи из ребенка мальчишкою стал —
на палке своей, оседлав ее лихо,
по пояс в цветах, словно всадник, скакал.
Я знал твою землю, раздольный мой край,
учился красотам твоим невзначай.
Но были совсем неизвестны мне в детстве
ни пламенный Пушкин, ни мудрый Абай.
Минувшее детство я вспомнить готов
как детство снегов и как детство цветов,—
ведь некому было дарить мне в ту пору
крылатых машин, заводных поездов.
А впрочем, мы вправе сказать без стыда:
их нашей стране не хватало тогда —
не много летало вверху самолетов,
не часто ходили внизу поезда.
В те годы лишений и классовых битв
был Павлик Морозов врагами убит.
Недаром, как мать, это детское имя
доныне страна с уваженьем хранит.
Мой край небогатый стал краем стальным,
бегут эшелоны один за другим.
Прими же, Республика, эту поэму,
как малую дань достиженьям твоим.
1
Где горная речка и ночью и днем
ворочает камни в стремленье своем,
как девичий стан, извивается в пляске,
звенит, словно белая цепь, серебром;
где шалью зеленой весна поскорей
укрыла прямые стволы тополей;
где в солнечном мареве мог ты услышать
лишь гам ребятишек да гогот гусей, —
сегодня спешит и толчется народ,
торопится юркий пробиться вперед,
и, гомон парадной толпы покрывая,
как тот петушок, паровозик орет.
Спеша поскорее на голос гудка,
до всех доносящийся издалека,
нестройно колышатся кепки и шляпы,
торопятся ситцы, мелькают шелка.
Отцы или деды ведут малышей,
держа их ручонки в ручище своей.
Сынок мой в рукав уцепился и тянет:
«Ну, папа, иди же за мной побыстрей!»
Тут город — не жаль для детей ничего! —
построил дорогу для детства всего.
Ее окрестили мы Малым Турксибом,
как сына Турксиба большого того.
Так детскую город дорогу открыл.
И я на открытии с мальчиком был.
Со щедростью воина Павлик Морозов
ей славное имя свое подарил.
…В наполненный светом и гомоном зал,
на слет пионеров я как-то попал,—
меня, журналиста, послала газета,
чтоб я информацию краткую дал.
Я слушал, среди размышлений своих,
задорных девчурок, мальчишек лихих.
Дорогу железную — ишь вы какие! —
они предлагали построить для них.
Я думал с усмешкой: чего у них нет?
Дворцы и театры, кино и балет.
А мы в наши детские годы не знали
ни досыта хлеба, ни вдосталь конфет.
Не то позавидовал я ребятне,
не то обозлился, бурча в стороне,
но, в общем, как помнится, их предложенье
в блокнот не хотелось записывать мне.
Однако же мой молчаливый загиб,
безмолвно рожденный, бесславно погиб.
Решение вынесли люди большие:
построить для маленьких Малый Турксиб.
В тот год, замышляя большие дела,
страна моя в гору решительно шла —
огромная карта Советской России
флажками строительств покрыта была.
Наш Малый Турксиб был действительно мал.
Никто его делом большим не считал,
и в Главный Закон пятилетнего плана,
средь строек других он — увы! — не попал.
Ответьте — обида уместна ли тут?
Кипит, вдохновляемый юностью, труд.
Строители в парке казахской столицы
смолистые шпалы под рельсы кладут;
растет, поднимается детский вокзал,
уже он похожим на здание стал.
И взрослый и юноша — с радостью каждый
строительству лепту посильную дал.
Уже семафоры прямые торчат
и рельсы под утренним солнцем блестят.
Огнем пионерские галстуки вьются,
и кепки рабочие в воздух летят.
Стоит, окруженный веселой толпой,
смущенный вниманьем путеец седой.
Все знают, что строил он оба Турксиба:
для маленьких — Малый, для взрослых —
Большой.
Мужчины и мальчики рядом стоят,
наполнен у каждого радостью взгляд…
Как вдруг произнес со столба репродуктор:
«Пхеньян. Чужеземцы столицу бомбят».
И сразу, мгновенно в аллеях сквозных
веселье угасло и гомон затих.
И матери, нежно прижав ребятишек,
задумались тихо о детях чужих.
В Корее свинцовая хлещет метель,
разят пулеметчики мирную цель;
и мать, обезумев от слез, обнимает
пустую, как брошенный дом, колыбель.
В пылающем небе фугаски визжат,
мосты от прямых попаданий горят,
а возле железной дороги, в ожогах,
скелеты вагонов безмолвно лежат.
Проклятая бомба разрушила дом,
где песни писались за низким столом, —
лишь только случайно листок обгоревший
трепещет, как траурный флаг, над окном.
Наемники землю калечат и жгут,
но песню они никогда не убьют,—
недаром же красную песнь Тё Ги Чена
бойцы, словно знамя, в атаку несут.
Вы били бандитов и будете бить.
Не будут они по Корее ходить.
Наемным штыком, интервентскою пулей
народ возрожденный нельзя подавить!
Корея похожа на крепость в дыму.
Свободу она не отдаст никому.
Народ-богатырь утвердился в окопе,
сынишки подносят патроны ему.
Так думали все мы, потупивши взор,
чуть слышно прохладою веяло с гор.
И голубь, паривший над утренним парком,
спустился, как символ, на наш семафор.
2
Толпа разлилась, как весной Сырдарья,
всем встречным, без счету, улыбки даря.
Как ярмарка радости — гомон вокзала,
и льется из солнца поток янтаря.
Глядит с восхищеньем мой резвый сынок —
вокзал, по его представленьям, высок.
Но я-то, конечно, отлично заметил,
что он словно спичечный тот коробок.
И всё же он дорог мне, этот вокзал.
С годами я, видно, бесстрастным не стал:
далекая юность припомнилась сразу,
твои семафоры и рельсы, Урал.
Но вот пассажиры к вагонам идут.
Взойти по ступенькам — не маленький труд.
Иной по пути отдыхает три раза,
а все остальные томительно ждут.
Но я на ребят не гляжу свысока —
решительность их мне мила и близка:
они бы на ИЛы вскарабкались так же,
да нет для детей самолетов пока.
Слегка растерявшись от крика ребят,
старик со старухой поодаль стоят.
Но вот и они поднялись по ступенькам,
держа на руках круглолицых внучат.
Один по перрону, от страха далек,
степенно шагает мой малый сынок.
С игрушками схожи вагончики эти,
а сам паровоз-то всего с ноготок!
Девчурка с огромным букетом в руках
стоит и смеется в открытых дверях.
И алою бабочкой бант кумачовый
трепещет от ветра в ее волосах.
Но вот и дежурная с желтым жезлом
сурово шагает в убранстве своем,
и волосы детства под красной фуражкой
по-взрослому стянуты крепким узлом.
Я, право, хоть час любоваться готов
работою маленьких проводников:
с трудом поднимают они карапузов,
с почтеньем подсаживают стариков.
Звонок! Настоящий вокзальный звонок!
Перронные зрители хлынули вбок.
И громко, вовсю, закричал паровозик,
как утром, со сна, молодой петушок.
Перрон провожает нестройной толпой,
желая удачи в дороге большой —
пускай поглядят на далекие земли
и благополучно вернутся домой!
Мы едем! Свисти, паровозик, гуди!
Мои размышленья бегут впереди.
Я вовсе не мальчик, — скажи, отчего же
волнением стиснуто сердце в груди?
Ведь я в путешествиях трудных бывал,
не раз в самолетах высоких летал
и слышал походные марши оркестров,
когда еще в тесных пеленках лежал.
Я землю не только видал из окна —
тебя я изъездил, большая страна.
Мальчишкой скакал я, как всадник, на палке,
а в юности смело седлал скакуна.
Я все свои годы в движении был:
ходил на охоту, в походы ходил,
по заводям тихим и вертким стремнинам,
средь гребней кипящих размашисто плыл.
На Яике бурном, отсюда вдали,
в садах мои юные годы прошли.
Я слышал, как трактор советский заставил
забиться уснувшее сердце земли.
В далеких пределах я с армией был,
на жестких подошвах мозоли набил.
Дорожные камни, отроги Европы,
я вас и до нынешних дней не забыл…
Нельзя было нам от других отставать,
пришлось широко нам по жизни шагать.
Когда замерзали мы в зимних метелях,
к груди прижимала нас Родина-мать.
Весеннее время и грозный мороз
я вместе с народом своим перенес,
и этот пример завещаю сынишке:
хочу, чтобы он по-отцовскому рос.
…Заливисто наш паровозик свистит,
за окнами зелень неспешно бежит.
Со мною в вагоне, немного поодаль,
тот самый старик со старухой сидит.
Гляжу я любовно на старцев седых —
они молодеют среди молодых,
и меньше, мне кажется, стало морщинок
на лицах смущенно-торжественных их.
Старик-горожанин, а может, степняк,
не может насытиться счастьем никак
и часто к своим обращается внукам
с одним неизменным вопросом: «Ну, как?»
Как будто он, радуясь сердцем простым
тому, что мы лихо по рельсам бежим,
боится, что это свистящее чудо
не так, как хотелось бы, нравится им,
А возле окна черноокий джигит
с красавицей златоволосой стоит,
и что-то ей на ухо шепчет неслышно,
и только в лицо ее нежно глядит.
О чем он красавице может шептать?
Откуда об этом могу я узнать?
И кто же осмелится встать меж влюбленных,
рискуя огонь их сердец испытать?
А шумные стайки довольных детей
живут, как положено, жизнью своей:
у окон открытых нестройно теснятся
и спорят — всё громче и всё веселей.
Сквозь гул, монотонный и слитный сперва,
отдельные я различаю слова:
«Ребята! Кто эту дорогу построил?»
— «Москва!»
— «Вот придумал!»
«Конечно, Москва!»
А вдоль полотна, ожидая с утра,
стоят пешеходы, снует детвора,
и все нам приветственно машут руками,
кидают цветы, восклицают «ура»!
3
Опять со стараньем гудит паровоз,
мелькает листва тополей и берез.
«Ребята! Кто эту дорогу построил?»
Хочу я парнишке ответить всерьез.
Совсем не намерен рубить я сплеча.
Что толку — ответить ему сгоряча.
И вот предо мною уже возникает
живое, большое лицо Ильича.
Он вместе со мною всю жизнь мою был —
всегда в своем сердце его я хранил.
Истории занавес медленно взвился —
и прошлое родины тихо открыл:
шакалами царскими Саша убит,
повешен и в землю глухую зарыт.
«К победе пойдем мы другою дорогой», —
вчерашний курчавый малыш говорит.
Ему зачинателем быть суждено.
Пускай над Россиею небо темно —
из искры одной возгорается пламя,
и вот уже землю объяло оно!
Ильич нашу партию в битвы ведет.
Он всех вдохновляет и всё создает.
О ты, Революция пятого года!
Великий Октябрь и великий народ!
Он сам, хоть опавшие щеки бледны,
стоит у кормила гражданской войны
и сам подымает тяжелые бревна
на первом субботнике нищей страны.
Я вижу, хоть времени много прошло,
как он, излучая глазами тепло,
засунув подвижные руки в карманы,
склонился над картой большой ГОЭЛРО.
А память всё дальше и дальше ведет.
Иная картина пред нами встает:
украшена скромно зеленая елка,
Ильич вместе с Крупской в гостях у сирот.
В тот вечер — хоть этого я не слыхал —
он с шумным азартом детей развлекал,
и, сидя меж ними, об этой дороге,
конечно же, он ребятне рассказал.
Тюрьма и подполье. Семнадцатый год.
Развернутый фронт всенародных работ.
От ленинской жизни, от слов Ильичевых
и эта дорога начало берет!
<1958>