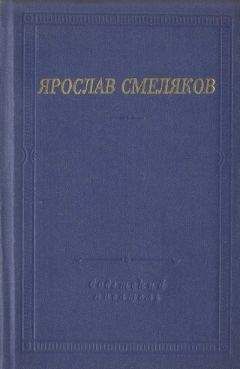339. ОСЕННИЙ КИЕВ
Тебя не раз при мне хвалили, Киев,
восторг всеобщий вызываешь ты!
Совсем не лесть признания такие,
а только подтвержденье красоты.
Асфальт прикрыт листвою желто-ржавой,
но сквозь нее темнеет и блестит.
Уже рыжеют на газонах травы
и дождь упорно день и ночь стучит.
И, распрощавшись с нашими краями,
летят в края чужие птицы, те,
каких зовут ученые стрижами, —
я ласточками звал их в простоте.
Но полыхают огненные канны
и георгины душу веселят…
Пришла пора работы долгожданной,
а не пора печалей и утрат.
Рачительная осень, как хозяйка,
в амбар ссыпает урожай златой,
и раскрывает дали без утайки,
и озимью блистает молодой.
Как счастлив я, что Киев наш осенний,
наш древний Киев радостен и нов
в большом труде, в горении, в движенье,
в строительстве заводов и домов.
<1962>
Я в поля звено водила в это лето.
За водою я ходила в час рассвета
К той кринице, где водица
Как умытая зарница
В час рассвета.
К ней дороги не травою, не росою,
Исколола свои ноги я стернею.
По жнивью да буеракам
Три версты с немалым гаком
Всё стернею.
А по правде — не волнуясь, без тревоги,
Можно б дольше походить по той дороге,
Да водой холодной, чистой
Напоить бы тракториста
По дороге.
Пусть он встанет, пусть он глянет прямо в очи,
Что на сердце, угадает, если хочет.
Пусть шагает у криницы,
Ожидает и томится
До полночи.
<1949>
341–342. ИЗ СТИХОВ О ТАРАСЕ ШЕВЧЕНКО
<1>
Ах, если б стать мне явором в поле,
тем, что Тарасу снился в неволе.
Явор твой белый. Зимние ночки.
Сны о свободе в той одиночке.
Но не хочу быть камнем лежалым —
тем, на котором песни писал он.
Твои скрижали, твои печали —
горючий камень на Кос-Арале.
Пусть этот явор из лихолетья
шелест доносит в наше столетье.
Чтоб не воскресла, не возвратилась
этого камня горькая милость.
Поэта сердце — не мертвый камень,
оно, как явор, шумит веками.
<2>
Ой, пришел бы ты к нам, бессмертный, через ночи и через горы
удивляться и любоваться нашим космосом и простором.
Нивы общие колосятся, смехом славится наша хата.
Мы богаты степною ширью, широтою души богаты.
Не в краю твоей Катерины, не под нашим советским солнцем,
а в далеких заморских странах рассевают коварный стронций.
Фарисеи на ассамблеях зашумели бы бестолково,
если взял бы Тарас Шевченко — делегат Украины — слово.
Слово гневное за кордоном! Вдалеке от родного дома.
Я от имени коммунистов низко кланяюсь крепостному
за его золотые строки, за святые его страницы,
что не выцвели, не истлели, а раскинулись, как зарницы.
<1961>
С БЕЛОРУССКОГО
Аркадий Кулешов
Задержанный клял свою долю,
в немецкий попавши острог.
Он весть об измене на волю
хотел передать, да не смог.
В ту пущу, что весть ожидала,
он с правдой хотел убежать,
да стража его задержала:
минуты до смерти считать.
Они вместе с правдой считали
шаги за острожной стеной,
его вместе с нею сжигали
в печи полуночной порой.
Предатель в усы усмехался,
он видел — известная вещь, —
как правду, какой он боялся,
эсэсовцы кинули в печь.
Когда бы умели — сказали
нам правду бы пепел с золой,
но молча их люди смешали
на пашне с молчащей землей.
Острог рассказал бы, да сгинул
острог от огня, от войны.
Виднеются только руины,
обломок тюремной стены.
По горам, лесам и долинам
давно отгремела война.
Как память, стоит на руинах
острожная эта стена.
И полночь за полночью снова
предателю снится во сне:
начертана — слово за словом —
вся правда о нем на стене.
Никто еще слов тех не знает,
и прежде, чем час тот пробьет,—
при молнии дождь их читает
и слезы осенние льет.
Предатель тюремную стену
среди пустырей отыскал.
Изменник слова про измену,
как свой приговор, прочитал.
Ах, зря он в усы усмехался,
случилась нежданная вещь:
ту правду, какой он боялся,
не взяли ни время, ни печь.
Никто не развеял по полю
ее, словно пепел седой.
Явилась та правда на волю
открытой всем взорам стеной.
Ее на острожных страницах
сам узник писал перед тем,
как в пепел ему превратиться,
как смолкнуть ему насовсем.
Писал он, чтоб ведали люди,
что правда не сгинет нигде,
чтоб ей предоставили судьи
свидетелем быть на суде.
<1948>
Мальчик по зимнему полю
бежал из неволи.
Брел он в снегу по колено
от немца из плена.
Ночью от мамки отбился,
в лесу очутился.
После смертельной тревоги
не движутся ноги.
Лег на сугроб, как под свод,
под еловые ветви.
А в этот час Новый год
начинался на свете.
Чем пареньку
плохо под елью косматой?
Снег на еловом суку
как блестящая вата.
Звезд голубые огни
блещут на елках.
Ниткой они
привязаны к хвойным иголкам.
Заметь, снижаясь с высот,
как конфетти, зашуршала.
Так до сих пор Новый год
никогда не встречал он.
В хвойную глушь занесен
снегом-метелью,
смертный нашел его сон
под новогодней елью.
Снежный сугроб простоял
до весны на поляне.
С белой постели не встал
тот мальчуган и не встанет.
Это ведь вовсе не сказка —
правда суровая,
а если даже и сказка —
не старая, новая.
Сказка Великой войны
и метельной полянки.
Не королевич заснул там,
а сын партизанки.
Сын партизанки!
Хоть белою снежной пургою
был ты засыпан,
но смерть не властна над тобою.
Песней спилю я
эту большую
елину.
Посеребренный
трепет зеленый
на плечи вскину.
И понесу над собой
снежные ветки
от пятилетки одной
до другой пятилетки.
Из года в год
по отчизне Советов свободной
будет она хоровод
украшать новогодний.
В том она будет дворце
нашей Отчизны,
что возведут, славя труд,
сыновья коммунизма.
В те она будет года
в праздничном зале,
сны воплотятся когда
и исчезнут печали.
Люди на ель поглядят
и в строгом молчанье
вспомнят о мальчике том,
что замерз на поляне.
Память о нем
не в лесу будет жить,
а в народе —
праздничным днем
в новогоднем кружить
хороводе.
<1948>