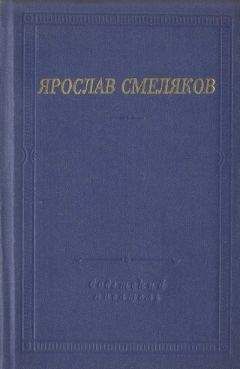Осман Сарывелли
361. НА БЕРЕГУ ЧЕРНОГО МОРЯ
Черное море сегодня тьмы первозданной черней.
Черная буря взыграла — страшная буря морей.
Штормом подъятые снизу,
выше скалистых громад,
пенные черные волны
в самое небо летят.
Это подводные тайны
с вечного дна поднялись
и с угрожающим ревом
ринулись в темную высь.
С дикой энергией молний —
недалеко до беды —
бьют о прибрежные скалы
снежные горы воды.
…Только лишь море взыграет, только сорвется волна,
словно сорвавшийся с места дикий разбег табуна,—
в бухты спешат пароходы,
в гнезда летят соловьи
и рыбаки выбирают влажные сети свои.
Чайки над самой водою мечутся, мчатся, кричат,
и у деревьев приморских смутно вершины шумят.
Вдруг небеса посветлели.
Средь затуманенных круч
первой вершина Ай-Петри
резко выходит из туч.
Ветер утих беспокойный.
Мирно рокочет волна,
и в успокоенном небе
тихо сияет луна.
Льет она в теплую воду
мелкий серебряный свет,
берег морской засыпая
сотнями новых монет.
…Здесь, на твоем побережье, в сказочном этом краю,
я бы хотел поселиться, жизнь подытожить свою.
Здесь, на твоем побережье,
воздух вдыхая морской,
славлю я мощное море,
ярость его и покой.
И, как орел одинокий,
сидя на гребне скалы,
слушаю пенье морское,
волны его и валы.
С шумной могучей стихией чувствуя дальнюю связь,
думаю я, что от моря жизнь на земле началась.
Долго любуюсь я морем, молча гляжусь в его гладь,
молча брожу побережьем, всё примечая вдали.
Жизни своей не жалея, рад бы ее я отдать
ради вот этой прекрасной, влажной приморской земли.
<1959>
Отчетливо и сосредоточенно
я произношу одно слово: солнце.
И сразу же светлеют перелески и нивы, улицы и переулки.
Спросонья человек на кровати
почесывает свою волосатую грудь и сладко зевает.
Вот он промывает водой глаза,
чтобы глядеть на солнце,
и тщательно моет большие руки,
готовясь ими обнять землю.
А солнце уже трепещет в оконных стеклах,
и дымящаяся на столе миска
полна до краев солнечным супом.
Садись, человек, и неторопливо
ешь это солнце из круглой миски —
ведь тебе самому надо
целый день светить и светиться.
Вот дровосек берет пилу и топор.
Вот пахарь, начиная борозду, понукает лошадь.
Вот машинист влезает в кабину портального крана.
Вот токарь подходит к своему станку,
и горняки, пересмеиваясь, опускаются в шахту.
А вот каменщик, весело посвистывая,
кладет кирпичную стену;
вместе со стеной он поднимается выше и выше
и наконец заслоняет солнце.
Я не вижу тебя, небесное светило,
я вижу работающего человека
и утверждаю, что сейчас он больше солнца!
…Ты помнишь, солнце, как Маяковский
однажды пригласил тебя попить чаю
и ты добрый час проболтало с поэтом?
Если каменщик во время перерыва,
вымыв запачканные раствором руки,
пригласит тебя, солнце, с ним пообедать,
не гордись и не чванься — спускайся на землю.
Ведь у нас почти что все люди — поэты.
И каменщик этот самый уже построил
большую поэму домов и улиц.
Отпробуй его честного хлеба,
поговори с ним о стройке и свете.
Я уже вижу, как вы оба сидите на кирпичах,
с аппетитом едите хлеб
и запиваете его холодной водою.
Гляжу я на вас и не могу ответить:
кто из двоих светлее и ярче —
солнце или человек работы?
<1960>
Босое детство на селе
всё чаще видится и снится;
хочу в те дни и к той земле
хотя бы на день возвратиться.
Я был бы так по-детски рад
услышать снова в мирный вечер,
как колокольчики бренчат
на шеях медленных овечьих.
Я б удивиться снова мог,
в сторонке стоя осторожно,
что луч вечерний, как клинок,
уходит в сумрачные ножны.
И, глядя вверх на звездный путь,
и потаенный и знакомый,
вновь на завалинке уснуть
родного маленького дома.
Я сладко спал бы второпях
под тихим небом всей вселенной,
зипун устроив в головах,
дыша прохладою и сеном.
И встал бы снова побыстрей,
когда едва лишь засветлело
и на раките соловей
свой голос пробует несмело.
Необходимо мне сейчас,
все опровергнув возраженья,
в том роднике, как в первый раз,
свое увидеть отраженье.
Пройти бы снова для красы
по полю зябкому умело,
когда все капельки росы
поют, как сельская капелла.
Мне б одного хватило дня,
когда я жил порою вешней
и в школу бабушка меня
гнала с заманчивой черешни.
…Никто меня не держит тут,
я полной пользуюсь свободой, —
вернуться в детство не дают
мне только собственные годы.
<1968>
Целый день она шагает,
и ночами ей не спится.
Время вышло, дорогая,
отдохнуть, угомониться.
По тропинке и дороге,
по жнивью да по пригорку
поспешают эти ноги
от прополки на уборку.
Но они уже устали
и одна другой — по слуху —
ночью жаловаться стали
на азартную старуху.
«Нету отдыха нам сроду,
мы ж теперь не в прежней силе,
и в тепло и в непогоду
сколько верст мы измесили!
Поднимаясь до рассвета,
дотемна ходя полями,
не однажды всю планету
мы промеряли шагами…»
Но старуха непрестанно
всё идет, шепча невнятно,
как волна по океану,
то туда, а то обратно.
Этот путь и эти сроки,
эти тихие деянья
не похожи ли на строки
легендарного сказанья!
<1969>
Армии еще есть
и, наверное, будут,
но у ракет
нет
и не будет
жесткого и трепетного
живого хвоста,
и у танков
не вырастут
конские гривы.
Кавалерия!
ты отслужила свой срок.
Но нельзя же
расстаться с тобою безмолвно
и позволить, чтоб ты незаметно
ушла.
На гремящих тачанках
везла ты грядущее наше,
на клинках беспощадных
ты ветер свободы несла.
Кони, павшие в битвах,
простите своих конармейцев,
тех, что, руки раскинув,
валились из седел ничком.
Кони, павшие в сечах,
простите героев за то, что
не всегда они
сено умели для вас находить.
Кони! Павшие кони!
Простите нам то, что от пастбищ
в дни войны
вам пришлось
на фашистские танки идти.
Ваши всадники
сами
летели навстречу металлу;
в исторических седлах
вы красные души несли.
Впрочем, вряд ли известно вам,
кони,
что такое душа.
Мы простились.
Уходит со сцены
кавалерия наша,
королева гражданской войны.
Мы простились с тобой.
Но ты врублена шашкой навеки
в нашу память и книги
и в блещущий вечный гранит.
По весенним ночам
оживают бумага и камень,
со страниц и кладбищ
воскрешенное ржанье звучит.
Бьют копытами кони,
почуяв отталую землю,
рвутся в поле…
Им хочется
мирную землю пахать.
<1960>