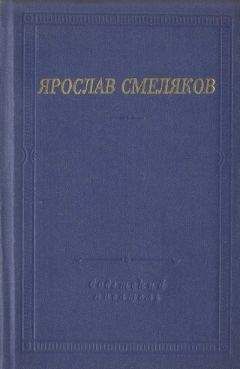С ЛАТЫШСКОГО
Армии еще есть
и, наверное, будут,
но у ракет
нет
и не будет
жесткого и трепетного
живого хвоста,
и у танков
не вырастут
конские гривы.
Кавалерия!
ты отслужила свой срок.
Но нельзя же
расстаться с тобою безмолвно
и позволить, чтоб ты незаметно
ушла.
На гремящих тачанках
везла ты грядущее наше,
на клинках беспощадных
ты ветер свободы несла.
Кони, павшие в битвах,
простите своих конармейцев,
тех, что, руки раскинув,
валились из седел ничком.
Кони, павшие в сечах,
простите героев за то, что
не всегда они
сено умели для вас находить.
Кони! Павшие кони!
Простите нам то, что от пастбищ
в дни войны
вам пришлось
на фашистские танки идти.
Ваши всадники
сами
летели навстречу металлу;
в исторических седлах
вы красные души несли.
Впрочем, вряд ли известно вам,
кони,
что такое душа.
Мы простились.
Уходит со сцены
кавалерия наша,
королева гражданской войны.
Мы простились с тобой.
Но ты врублена шашкой навеки
в нашу память и книги
и в блещущий вечный гранит.
По весенним ночам
оживают бумага и камень,
со страниц и кладбищ
воскрешенное ржанье звучит.
Бьют копытами кони,
почуяв отталую землю,
рвутся в поле…
Им хочется
мирную землю пахать.
<1960>
Навеки проклят королевский строй,
нет красоты в короне золотой, —
зачем же ты в своем стихотворенье
сравнил Аркыт с короной, сверстник мой?
Зеленый шум его ветвистых крон
живей и чище всяческих корон.
Мой милый край, наш край высокогорный
из соловьев и листьев сотворен.
И ханы, и цари, и короли
в небытие бесславное ушли,
а ты опять цветешь, благоухая,
лесная сказка неба и земли.
Ты словно свадьба вешняя, Аркыт,
ты всем, прекрасен и для всех открыт.
Трель соловьев твоих, не умолкая,
в моей душе магически звучит.
Мне по сердцу твой лиственный наряд,
естественней, чем он, — найдешь навряд.
Чужды тебе и золото, и пурпур,
продажный блеск покоев и палат.
Твой утренний стремительный ручей
журчит, как песня, в памяти моей.
Я не отдам одной зеленой ветки
за одеянья ханов и царей.
<1962>
Не за бумагой и столом —
Я лириком в то время стал,
Когда взрывчаткой и кайлом
В горах дорогу пробивал.
Пусть о влюбленных день и ночь
Поэты-лирики поют,
А для меня в любом труде
Любовь и лирика живут.
Живи же, лирика моя,
Не угасай, не умирай
И вечным пламенем своим
Сердца и души согревай.
<1962>
Могучий дуб, ты прожил семь веков
под сенью проходящих облаков.
Но до сих пор, как в ранние года,
твоя листва шумна и молода.
Случилось мне войти в счастливый день
под эту историческую тень.
Шумит его былинная листва,
как будто бы старинные слова,
и прошлые событья наяву
мне светятся сквозь вечную листву.
Я слушаю его рассказ о том,
как он служил Хмельницкому шатром,
как мчались в битву, выдернув клинки,
чубатые казацкие полки.
Семи столетий ты свидетель был
и ничего на свете не забыл.
Недвижный сторож неба и земли,
перед тобой столетья протекли.
Осталось семь столетий позади
с тех пор, как жил великий Саади.
Здесь расстилался утренний туман,
а там в те дни писался «Гулистан».
Могучий дуб, свидетель тех времен,
ты в будущее время устремлен.
Семьсот метельных приднепровских зим,
и всё же ты остался молодым.
Живи, шуми. И этот братский край
своим зеленым шумом украшай!
<1962>
Давным-давно, в какой-то прошлый век,
жил одинокий старый человек.
Он жил тихонько в хижине своей
под мирной сенью ивовых ветвей.
Однажды утром, покорясь судьбе,
он срезал посох ивовый себе.
И посох тот лишившемуся сил —
хотя б отчасти — юность возвратил.
Вот почему уже на склоне дней
решил старик проведать сыновей.
И тотчас же — про посох не забудь! —
отправился в благословенный путь.
Вот он уже — а путь неближним был —
на землю Вахша медленно вступил.
Вот он уже, не сразу, а с трудом,
нашел сыновний неприметный дом.
И у калитки — прям, а не сутул —
свой посох в землю вахшскую воткнул.
Гостя в кругу внимательно-родном,
он вспомнил вдруг о посохе своем.
А посох тот, хоть малый срок прошел,
за этот срок едва ли не расцвел.
Из почвы щедрой набираясь сил,
он прямо в недра корни пропустил…
Я вам изустный дедовский рассказ
переложил, как слышал, без прикрас.
Теперь пора о том повествовать,
что самому случилось увидать.
Как тот старик, не в шутку, а всерьез
затосковал я по Долине роз.
И в тот же день, собравшись поскорей,
поехал в гости к родине своей.
В краю освобожденного труда
кипела урожайная страда.
Его народ — а он совсем не мал —
на картах хлопка хлопок собирал.
Трудились тут едва ли не с зари
и героини и богатыри.
Тебя, мой край, в советский этот век
преобразил советский человек.
Отсюдова, как на осенний пир,
везут гранаты и везут инжир.
Из тех траншей, что выкопаны тут,
лимоны золотистые цветут.
Течет отсюда белая мука
и белые потоки молока.
Попробуй-ка исчислить без труда
всё, что дает привахшская страда.
Наверно, нету ни в одной из стран
такой долины, мой Таджикистан.
Она лежит на утренней земле,
как дастархан на праздничном столе.
<1962>
Шествуют куда-то напрямик
оба-два — старуха и старик.
Шествуют бок о бок, не спеша,
как одна взаимная душа.
То ли он наперсницу забот
под руку внимательно ведет;
то ли, понимания полна,
помогает спутнику она.
Смолоду на дворике села
их любовь, как яблонька, росла.
А теперь надежно служит
им обоюдным посохом одним.
<1962>