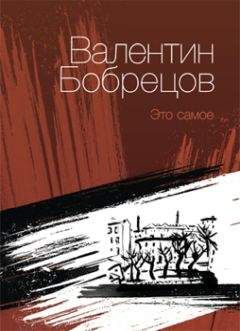Завтрак на траве
Не будучи живуч, как осетины,
не празднуя субботу без забот,
такую жизнь пройдя до середины,
то за живот хватаясь, то за бок, —
ты, плюхнувшись под сень родной осины,
окрестишь лоб и, почесав лобок,
разложишь на траве, чем Русский Бог
окрестные снабжает магазины.
И, закусив огузком поросиным
(так вот к чему за пазухой топор!),
ты, спутав в простоте с гнездом осиным
национальный головной убор,
несешься, вопия, через сыр-бор
(горды ездою скорой по Руси мы!).
Я не посягал на сахар-мясо,
но имея виды на хлеб-соль,
чистый, словно младший Карамазов,
покатил я это колесо.
По гудрону, по торцам булыжным,
по дорогам горным и лесным, —
но везде и всюду было лишним
колесо, что мнил я запасным.
Ни телеге, ни автомобилю —
только осью гнутою скрипя,
встречных мелкотравчатою пылью
обдавало с головы до пят.
Грязный и во всех грехах запятнан
(разве что пока не убивал) —
и везде оказывалось пятым
колесо, что я изобретал.
Никому нигде не пригодилось,
ободом царапая бетон.
Никуда пока не прикатилось,
катится – спасибо и на том.
«Кто не против меня – со мной…»
Кто не против меня – со мной,
и до первого поворота,
где я сам повернусь спиной,
к удивлению доброхота,
потому что, как ни трендим
про Патрокла, что друг Ахиллу,
дальше каждый идет один,
как в уборную, как в могилу.
«Сын генерала продает секреты…»
Сын генерала продает секреты,
сын пасечника – второсортный мед.
А мой отец пятнадцать лет как мёртв.
А я… я покупаю сигареты
у сукиного сына на углу
проспектов Просвещенья и Культуры,
чтоб спичкой осветить их Тьму и Мглу…
начало 90-х
«И вот заговорил кинематограф…»
И вот заговорил кинематограф.
А благодарный зритель замолчал.
И мне, исполнен страхов и восторгов,
свое косноязычье завещал.
И мучимый его неизреченным
и собственной тоской по языку,
я Демосфеном новоиспеченным,
набравши в рот балтийского песку,
как в детстве – не предчувствуя Глагола,
но раскусив сургучную печать, —
отплёвываюсь, прочищая горло,
и за отца пытаюсь отвечать.
«Город. Транспорт. Пешеход…»
Город. Транспорт. Пешеход.
Крыша дома. Крышка гроба.
Пушкин. Яблоко. Корова.
Бормоча, как обормот:
раз-два-три-четыре-пять
вышел зайчик за брюнета
один Брутто другой Нетто
ум-уменье-умирать
начало 1990-х
«Листьев разлагающихся груда…»
…В день, всем людям внушающий страх, в страшный день, когда человек должен покинуть этот мир, четыре стихии, составляющие его тело, вступают в спор между собой; каждая хочет стать свободной от других.
Книга Зогар
Листьев разлагающихся груда
и стихий разлаженный квартет.
Воздух отрывается от грунта
И огонь спускается к воде.
Мост самоубийственной Свободы
над пустопорожним рукавом.
И тихопомешанные воды.
Но – не говорю о Роковом!..
Слава Богу, на дверях щеколда
и не прыгнешь выше головы.
Отложу до будущего года
эту книгу листьев трын-травы.
Идеал неврастении зимней:
камера с запором изнутри.
Господи, но только не тряси мне
стол, и что пишу я – не смотри.
Ибо срок настанет – и прииду,
и к стопам, рыдая, припаду.
Но пока прошу-молю Киприду
о двойном огне в ее аду.
«Ах, кукушка, ах, сивилла…»
Ах, кукушка, ах, сивилла
тощих северных лесов,
до сих пор гнезда не свила
и язык твой не отсох!
И незваный гость лесного
государя, рад я снова
слышать птичий голосок,
что не низок, не высок.
С Богом Ветхого Завета
нет ни сходства, ни родства,
но опять «ку-ку» из веток
раздаётся – раз и два.
Раз кукушка. Два кукушка.
Что затихла? Продолжай.
Препустая повестушка,
но, сказать по правде, жаль,
если устно и печатно
сообщат про твой финал.
Будет грустно и печально,
будто сам и распинал.
Ну-ка, птичка, три-четыре!
Ещё много-много раз!
Я, как вор в своей квартире,
и на доброе горазд.
И приникнув к амбразуре,
я хочу – как большинство —
видеть золото в лазури,
но не пулемётный ствол.
Пять… благодарю покорно.
Шесть… спасибо, ждать не ждал.
Семь… во всё кукушье горло.
Восемь… девять… Божий дар…
Десять… Нет, пожалуй, хватит.
Вот уже который срок
сменщик пьян – сижу на вахте,
трон не больно-то высок.
Стерегу «Доску почета»,
стены, крышу, что течет, да
лужу желтую в меже,
там, где пол. Где «М» и «Ж».
Птица, нет бы вам уняться,
нет бы посидеть молчком.
Восемнадцать… девятнадцать…
двадцать… Партия. Очко!
Из долины – с пыла, с жара —
всяк в прохладу норовит,
где в снегах Килиманджаро
караулит нас плеврит).
Перевал лежит в тумане.
Красота – как в синема.
Тяжек воз воспоминаний,
лошадиных сил – нема.
Руки-ноги онемели.
За душою – кирпичи.
Не томи, не мучь, не медли, —
ты всё пела? Замолчи!..
«В тупике истории гражданской…»
В тупике истории гражданской,
где-то между небом и землей,
в паузе меж холею и таской,
кем-то между птицей и змеей,
я (de facto разорвали волки,
но de jure будучи в щенках)
кой-какие подвожу итоги.
А они – меня. Да еще как!
Что я делал? Разведу руками.
Небеса чухонские коптил.
Да еще двумя-тремя строками
городской фольклор обогатил.
Достигал, возможно, и вершин.
Впрочем, не цитирую, неловко…
И поочередно пережил
Лермонтова, Пушкина и Блока.
1993
«Полузатопленный дом-корабль…»
Полузатопленный дом-корабль.
Полузабытый гневливый Бог
недотопил его, недокарал
затем, чтоб я видеть мог
крысу, бегущую по волнам
лужи: не знаю – от нас ли, к нам?
Ибо как раз параллельно окну
зверок не идет ко дну.
90-е
Памяти художника Сергея Щеголева
1. На смерть юного Чаттертона
О нет, я не хочу, как ты,
о юный Чаттертон,
как пьяный – поперек тахты
лежать с открытым ртом.
Художник правдой пренебрег
укладывая – вдоль.
Хотя что вдоль, что поперек,
горька сия юдоль:
гигиеничный тюфячок
в каморке угловой,
неголубая кровь течёт
на бархат голубой…
Ты мне годишься в сыновья,
какой меж нами спор?
А ну-ка, пьяная свинья,
встань и возьми свой одр!
Встань! И иди, незрелый псих,
в бардак или собор.
Глядишь, в одном из пунктов сих
и встретишься с собой.
Встань и иди, куда скажу,
но через двадцать лет
вернись – и сам тебе вложу
в ладошку пистолет.
2. «Автопортрет с разбитой головой»
Это коллекция помарок,
это букет неврозов…
Вот как выходит,
а я-то хотел всего лишь
выращивать антимонии
в своей голове садовой.
Это пик, а верней, тупик,
поставленный на попа,
где героический сокол в полете
и конический цоколь в помете.
Это час, когда поцелуй
означает и все остальное,
и колотится сердце-зверок о стальное
ограждение клетки грудной,
как утопленник – головой о берег родной.
декабрь 1993
Я своё отсидел в ките
и ни разу не поднял хипеж.
Я сидел, сколько Ты хотел.
А теперь отпусти мя в Китеж!
Благо вот он, во всей красе.
И не за морем – в шаге с моста.
Не совсем же я оборзел,
чтоб проситься у Бога в Бостон.
Я гляжу на Оредеж.
Хорошо. Но море где ж?
От изжоги, что после восточных сластей,
пить английскую соль из обеих горстей…
Только, кореш,
какой уж Колридж!
И вот-вот,
какой там Вортсворт!..
Ворочайся-ка восвояси
да ворочайся-восвиняйся.
1994
«Когда Бог-Отец был совсем юн…»
…Я подумал: кто же лучше, мы или корейцы? Но что китайцы лучше нас, это бесспорно.
М. Пришвин. Дневник 1931 года
Когда Бог-Отец был совсем юн
и не помышлял о Сыне,
в Китае, при династии Сун,
боюсь утверждать про сине —
матограф, но лет примерно за трис —
та пятьдесят до Адама
придумали и бумагу, и рис.
А порох, тот и подавно!
Светлое будущее. Казнь десятая
Вот, по слову Божьему обобран
(или повторяется Исход?),
вслед этрускам, амореям, обрам,
долгий составляющим эскорт,
скачет, перекошен от обиды,
бедуин на лысом ишаке
мимо усеченной пирамиды
с мумией в кургузом пиджаке.
День рождения Софии-Паллады