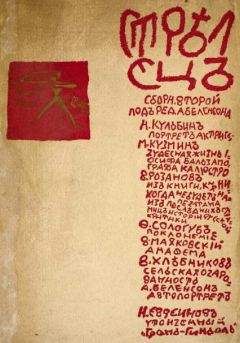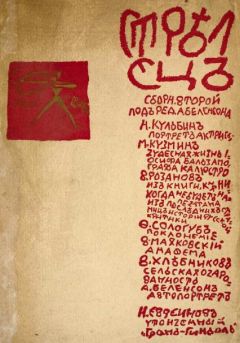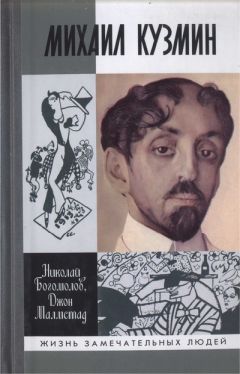Словно сто лет прошло, а словно неделя!
Какое неделя… двадцать четыре часа!
Сам Сатурн удивился: никогда доселе
Не вертелась такой вертушкой его коса.
Вчера еще народ стоял темной кучей,
Изредка шарахаясь и смутно крича,
А Аничков дворец красной и пустынной тучей
Слал залп за залпом с продажного плеча.
Вести (такие обычные вести!)
Змеями ползли: «Там пятьдесят, там двести
Убитых…» Двинулись казаки.
«Они отказались… стрелять не будут!..» —
Шипят с поднятыми воротниками шпики.
Сегодня… сегодня солнце, встав,
Увидело в казармах отворенными все ворота.
Ни караульных, ни городовых, ни застав,
Словно никогда и не было охранника, ни пулемета.
Играет музыка. Около Кирочной бой,
Но как-то исчезла последняя тень испуга.
Войска за свободу! Боже, о Боже мой!
Все готовы обнимать друг друга.
Вспомните это утро после черного вчера,
Это солнце и блестящую медь,
Вспомните, что не снилось вам в далекие вечера,
Но что заставляло ваше сердце гореть!
Вести все радостней, как стая голубей…
«Взята Крепость… Адмиралтейство пало!»
Небо все яснее, все голубей,
Как будто Пасха в посту настала.
Только к вечеру чердачные совы
Начинают перекличку выстрелов,
С тупым безумием до конца готовы
Свою наемную жизнь выстрадать.
Мчатся грузовые автомобили,
Мальчики везут министров в Думу,
И к быстрому шуму
«Ура» льнет, как столб пыли.
Смех? Но к чему же постные лица,
Мы не только хороним, мы строим новый дом.
Как всем в нем разместиться,
Подумаем мы потом.
Помните это начало советских депеш,
Головокружительное: «Всем, всем, всем!»
Словно голодному говорят: «Ешь!»,
А он, улыбаясь, отвечает: «Ем».
По словам прошел крепкий наждак
(Обновители языка, нате-ка!),
И слово «гражданин» звучит так,
Словно его впервые выдумала грамматика.
Русская революция — юношеская, целомудренная,
благая —
Не повторяет, только брата видит в французе,
И проходит по тротуарам, простая,
Словно ангел в рабочей блузе.
Слоями розовыми облака опадали.
Вечер стих, но птицы еще не пели.
Золотой купол был апостольски полон,
и не проснувшееся с горы было видно море.
Зеленоватые сырые дали
ждали
загорной свирели,
и непроросшие еще гребни волн
к утру не вызывал звук.
Вдруг
легкий и теплый, словно дыханье, голос
(из долины, с неба?) пропел:
— Милый путник, слушай.
К премудрости открой уши.
Закрыты запада двери:
я, ты и Бог — трое.
Четвертого нет.
Безгласны спящие звери.
Но Божий сияет свет.
Посвященным — откровенье.
Просто стой.
Кругами небесных тел
восхожденье
к полноте неоскудно простой.
Слушай мой голос,
говорю я, Радужных Врат дева,
Праматерь мира, первозданная Ева.
Я колышу налитый мною колос,
я алею в спелой малине
и золотею в опереньи фазана,
трепещу на магнитной игле,
плачу в сосновой смоле,
в молоке разломанного стебля,
с птицей летаю,
с рыбой ныряю,
с ветром рыдаю,
мерцаю звездой.
Через меня в пустоте возникает эхо
и в пустыне обманчивые здания.
Я извожу искры из кошачьего меха
и филину наплакала ночные рыдания.
Теку, неподвижная,
лежу, текучая,
золотая и темная,
раздробленная и целая,
родная и непонятная
слепая пророчица,
косное желание.
Ростки мироздания —
я вывожу траву из подземной гнили,
я, подымая прямо деревья —
на косогорах и уклонах растут они прямо, —
я воздвигаю храмы.
Мною головы людей смотрят в небо
и поднимают вспученные мужские органы
(прямо, крепко, вверх)
для той же цели.
Слушай, слушай!
Зови меня Ева,
Еннойя,
Душа мира,
София.
Я в тебе,
и ты во мне.
Я, ты и Бог — трое,
четвертого нет. —
Тихим воркованьем наполнились уши.
Посветлели последние тени;
голос пел все нежнее, все глуше,
по долинным опускаясь ступен<ям>.
Как проснувший<ся>
поднял я голову
и увидел круглое,
как диск, солнце.
Прежде
Мление сладкое,
Лихорадка барабанной дроби, —
Зрачок расширенный,
Залетавшегося аэроплана дыханье,
Когда вихревые складки
В радужной одежде
Вращались перед изумленным оком
(Белоризцы при Иисусовом гробе
Вещают: «Кого ищете?»
А мироносицы в радостном страхе обе
Стоят уже не нищие).
И в розово-огненном ветре
Еле
Видны, как в нежном кровь теле,
Крылья летящей победы.
Лука, брошенная отрочьим боком,
Неведомого еще Ганимеда
И орла,
Похитителя и похищаемого вместе
(Тепло разливается молочно по жилам немой
невесте),
И не голос, —
Тончайшей златопыли эфир,
Равный стенобитным силам,
Протрепещет в сердце: вперед!
«Зри мир!
Черед
Близится
С якоря
Взвиться
Летучим воображения кораблям.
Сев
Пахаря,
Взлетев,
Дождится
Нездешним полям».
Иезекиилево колесо —
Его лицо!
Иезекиилево колесо —
Благовестив!
Вращаясь, все соединяет
И лица все напоминает,
Хотя и видится оно,
Всегда одно.
Тут и родные, милые черты,
Что носишь ты,
И беглый взгляд едущей в Царское дамы,
И лик Антиноя,
И другое,
Что, быть может, глядит из Эрмитажной рамы,
Все, где спит
Тайны шелест,
Где прелесть
Таинственного, милого искусства
Жива…
Крутится искряной розой Адонисова бока,
Высокого вестник рока,
Расплавленного вестник чувства,
Гавриил.
Твои свиданья, вдохновенье,
Златисты и легки они,
Но благовестное виденье
Прилежные исполнит дни.
Рукою радостной завеса
Отдернута с твоей души…
Психея, мотылек без веса,
В звенящей слушает тиши.
Боже, двух жизней мало,
Чтобы все исполнить.
Двух, трех, четырех.
Какую вспахать пашню,
Какую собрать жатву.
Но это радостно, а не страшно…
Только бы положить начало,
Только бы Бог сберег!
Бац!
По морде смазали грязной тряпкой,
Отняли хлеб, свет, тепло, мясо,
Молоко, мыло, бумагу, книги,
Одежду, сапоги, одеяло, масло,
Керосин, свечи, соль, сахар,
Табак, спички, кашу, —
Все,
И сказали:
«Живи и будь свободен!»
Бац!
Заперли в клетку, в казармы,
В богадельню, в сумасшедший дом,
Тоску и ненависть посеяв…
Не твой ли идеал осуществляется, Аракчеев?
«Живи и будь свободен!»
Бац!
Плитой придавили грудь,
Самый воздух сделался другим,
Чем бывало,
Чем в хорошие дни…
Когда мир рвотой томим,
Во рту, в голове перегарная муть,
Тусклы фонарей огни,
С неба, с земли грязь,
И мразь,
Слякоть,
Хочется бить кого-то и плакать, —
Тогда может присниться такое правленье,
Но разве возможно оно
В чуть сносный день,
При малейшем солнце,
При легчайшем ветерке с моря,
Несущем весну?
Затоптанные
Даже не сапогами,
Не лаптями,
А краденными с чужой ноги ботинками,
Живем свободные,
Дрожим у нетопленной печи
(Вдохновенье).
Ходим впотьмах к таким же дрожащим друзьям.
Их так мало, —
Едим отбросы, жадно косясь на чужой кусок.
Туп ум,
Не слышит уже ударов.
Нет ни битв, ни пожаров.
Подлые выстрелы,
Серая ненависть,
Тяжкая жизнь подпольная
Червей нерожденных.
Разве и вправду
Навоз мы,
К<а>к говорит навозная куча
(Даже выдохшаяся, простывшая),
Нас завалившая?
Нет.
Задавленные, испуганные,
Растерянные, может быть, подлые, —
Но мы — люди,
И потому это — только сон
(Боже, двухлетний сон)
Потому не навек
Отлетел от меня
Ангел благовествующий.
Жду его,
Думая о чуде.
Я человек,
И в каждом солнце:
Великопостно русском,
Мартовской розою кроющем
Купола и купеческие до́мы,
Итальянском рукодельном солнце,
Разделяющем, к<а>к Челлини,
Ветку от ветки,
Жилку от жилки,
Парижском, грязном, заплаканном солнце,
Ванильном солнце Александрии,
Среди лиловых туманов
И песков марева
Антично маячащем,
В ветренном, ветренном
Солнце Нью-Йорка,
Будто глядит на постройки,
На рабочих
Молодая мильярдерша хозяйка,
В зимнем Онегинском солнце,
Что косо било
В стекла «Альбера»,
И острое жало
Вина и любви
Ломалось в луче
(Помните?)
И в том небывалом,
Немного в Чикаго сделанном,
Что гуляет на твоих страницах,
В высоких дамских сапожках,
То по литовским полям,
То по американским улицам,
То по утренним, подозрительным комнатам,
То по серым китайским глазам,
Капризном, земном,
Лукавом, иногда вверх ногами
(И рейнвейн не прольется?)
Солнце, —
Я вижу,
Что вернется
Крылатый блеск,
И голос, и трепет,
И снова трех жизней окажется мало,
И сладким отчаяньем замрет сердце,
А ангел твердит: «Пора!
Срок твой не так уж долог!
Спеши, спеши!
Разве не радостен скрип пера
В заревой тиши,
Как уколы винных иголок!»
И сон пройдет,
И мир придет,
Перекрестись, протри глаза!
Как воздух чист,
Как зелен лист,
Хотя была и не гроза!
Снова небо голубыми обоями оклеено,
Снова поют петухи,
Снова можно откупорить вино с Рейна
И не за триста рублей купить духи.
И не знаешь, что делать:
Писать,
Гулять,
Любить,
Покупать,
Пить,
Просто смотреть,
Дышать,
И жить, жить!
Тогда свободно, безо всякого груза,
Сладко свяжем узел
И свободно (понимаете: свободно) пойдем
В горячие, содержимые частным лицом,
Свободным,
Наживающим двести тысяч в год
(Тогда это будут огромные деньги),
Бани.
Словом довольно гадким
Стихи кончаю я,
Подвергался стольким нападкам
За это слово я.
Не смею прекословить,
Неловок, может быть, я,
Но это было давно ведь,
С тех пор изменился я.
В этом убедится всякий беспристрастный читатель.
Притом есть английское
(на французском языке) motto[106],
Которое можно видеть
На любом портсигаре, подвязках и мыле:
«Honny soit qui mal y pense».