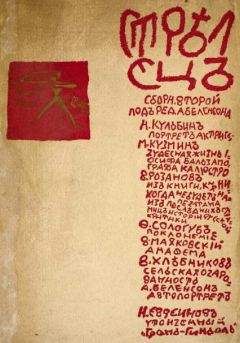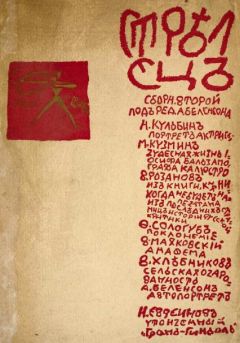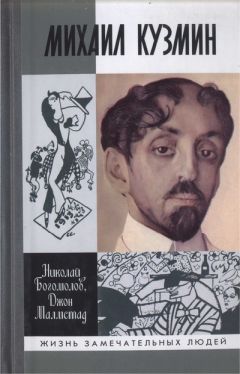«Возвращался я домой поздней ночью…»
Возвращался я домой поздней ночью,
Когда звезды при заре уж бледнели
И огородники въезжали в город.
Был я полон ласками твоими
И впивал я воздух всею грудью,
И сказали встречные матросы:
«Ишь как угостился, приятель!» —
Так меня от счастия шатало.
«Что ж делать, что ты уезжаешь…»
Что ж делать, что ты уезжаешь
И не могу я ехать за тобой следом?
Я буду писать тебе письма
И ждать от тебя ответов,
Буду каждый день ходить в гавань
И смотреть, как корабли приходят,
И спрашивать о тех городах, где ты будешь,
И буду казаться веселым и ясным,
Как нужно быть мудрецу и поэту.
Накоплю я много поцелуев,
Нежных ласк и изысканных наслаждений
К твоему приезду, моя радость,
И какое будет счастье и веселье,
Когда я тебя на палубе завижу
И ты мне махнешь чем-нибудь белым.
Как мы опять в мой дом поедем
Среди садов тенистого предместья,
Будем опять кататься по морю,
Пить терпкое вино в глиняных кувшинах,
Слушать флейты и бубны
И смотреть на яркие звезды.
Как светел весны приход
После долгой зимы,
После разлуки — свиданье.
Ко мне сошел
блаженный покой.
Приветствовать ли мне тебя,
сын сна,
или страшиться?
И рассказам о кровавых битвах
там, далеко,
где груды мертвых тел
и стаи воронов под ярким солнцем,
внимаю я
равнодушно.
И повести о золотом осле,
столь дорогой мне,
смеху Вафилла кудрявого,
Смердиса пенью,
лирам и флейтам
внимаю я
равнодушно.
На коней белогривых с серебряной сбруей,
дорогие вазы,
золотых рыбок,
затканные жемчугом ткани
смотрю я
равнодушно.
И о бедственном дне, когда придется
сказать «прости» милой жизни,
вечерним зорям,
прогулкам веселым,
Каноггу трижды блаженному,
я думаю
равнодушно.
Не прислушиваюсь я больше к твоим шагам,
не слежу зорким ревнивым глазом
через портик и сад
за твоею в кустах одеждой
и даже,
и даже
твой светлый взор
серых под густыми бровями глаз
встречаю я
равнодушно.
<1904–1905>
«Нежной гирляндою надпись гласит у карниза…»*
Нежной гирляндою надпись гласит у карниза:
«Здесь кабачок мудреца и поэта Гафиза».
Мы стояли,
Молча ждали
Пред плющом обвитой дверью.
Мы ведь знали:
Двери звали
К тайномудрому безделью.
Тем бездельем
Мы с весельем
Шум толпы с себя свергаем.
С новым зельем
Новосельем
Каждый раз зарю встречаем.
Яркость смеха
Тут помеха,
Здесь улыбки лишь пристойны.
Нам утеха —
Привкус меха
И движенья кравчих стройны.
В нежных пудрах
Златокудрых
Созерцаем мы с любовью,
В круге мудрых
Любомудрых
Чаши вин не пахнут кровью.
Мы — как пчелы,
Вьемся в долы,
Сладость роз там собираем.
Горы — голы,
Ульи — полы,
Мы туда свой мед слагаем.
Мы ведь знали:
Двери звали
К тайномудрому безделью,
И стояли,
Молча ждали
Пред плющом обвитой дверью.
Нежной гирляндою надпись гласит у карниза:
«Здесь кабачок мудреца и поэта Гафиза».
<1906>
«Если б ты был небесный ангел…»*
Если б ты был небесный ангел,
Вместо смокинга носил бы ты стихарь
И орарь из парчи золотистой
Крестообразно опоясывал бы грудь.
Если б ты был небесный ангел,
Держал бы в руках цветок или кадилу
И за нежными плечами
Были б два крыла белоснежных.
Если б ты был небесный ангел,
Не пил бы ты vino Chianti[103],
Не говорил бы ты по-английски,
Не жил бы в вилле около Сан-Миньято.
Но твои бледные, впалые щеки,
Твои светлые, волнующие взоры,
Мягкие кудри, нежные губы
Были бы те же,
Даже если бы был ты небесный ангел.
<1906>
Утро («Звезды побледнели…»)*
Звезды побледнели,
небо на востоке зеленеет,
ветер поднялся,
скоро заря засветит.
Как легко дышать
после долгой ночи,
после душных горниц,
после чада свечей заплывших!
Пенье доносится снизу,
с кровли виден город,
все спит, все тихо,
только ветер в саду пробегает.
Как лицо твое бледно
в свете звезд побледневших,
в свете зари нерожденной,
в свете грядущего солнца!
<1907>
«Свистков призыв, визг круглых пил…»*
Свистков призыв, визг круглых пил
Моей любви не усыпил.
Шипенье шлюз, шумы котлов
Не заглушают сладких слов.
Сквозь запах серы и резин
Мне запах слышится один.
Кругом народ, иль нет жилья —
Пленен мечтой, не тот же ль я?
Вослед мечте влечется ум,
И тщетен фабрик душных шум.
Пусть, ворожа, они манят —
Мне не опасен дымный яд;
Не заглушат прошедших слов
Шипенье шлюз, шумы котлов.
И все любви не усыпил
Свистков призыв, визг круглых пил.
1907
Сонет («В последний раз зову тебя, любовь…»)*
В последний раз зову тебя, любовь,
Слабеют силы в горестном усилье…
Едва расправлю радостные крылья,
Взбунтуется непокоренной кровь…
Ответь мне «да», — молю, не прекословь.
Лишь для тебя прошел десятки миль я.
О, связки милые, о, сухожилья,
Двойные звезды глаз, ресницы, бровь.
Кольцо дано не на день, а навеки.
Никто другой, как я, тебя не звал,
Я вижу лишь тебя, закрывши веки…
Зачем прибой стремит свой шумный вал?
Едва домчавшись, он отпрянет снова,
Во всех скитаньях ты — моя основа…
31 марта 1912
<Из цикла «Зеленый доломан»>*
«Я рассмеялся бы в лицо…»
Я рассмеялся бы в лицо
Тому, кто мне сказал заране,
Что после сладостных лобзаний,
Размолвок, ссор, опять свиданий
Найду я прежнее кольцо,
Кольцо любовных обручений,
Надежд, томлений и мучений.
Как, я, Кузмин, опять влюблен,
И в Вас, кого люблю два года?
Не изменилась ли природа,
Иль нипочем мне стала мода,
Что я, как мальчик, увлечен
И что нетерпеливо жду я
Изведанного поцелуя?
Причуды милые Мюссе,
Где все так радостно и чисто,
Фривольности ли новеллиста,
Воздушные ли песни Листа
Иль запах Chevalier d'Orsay, —
Понять ваш смысл определенный,
Ах, может лишь один влюбленный!
Читаю книгу целый час,
Читаю очень я прилежно,
И вместо строчек неизбежно
Я вижу, замирая нежно,
Лежащим на диване Вас.
Я отвернусь, глаза закрою,
Но тем мученья лишь утрою.
Лежит ленивое перо,
Лежу я сам на том диване,
Где Вы сидели после бани
В своем зеленом доломане,
Глядя и нежно и остро.
Ужели сердце позабыло
Все то, что было, право, было?
А я так помню как вчера
И вместе с тем так странно ново,
Что Вас люблю я, не другого,
И что твержу одно лишь слово
Я от утра и до утра
(Как то ни мало остроумно):
«Люблю, люблю, люблю безумно».
Поют вдали колокола,
И чудится мне: «Рига, Рига».
Как хороша ты, как светла,
Любви продолженная книга.
Дождусь ли сладостного мига,
Когда Вас въяве обниму
И нежное придется иго
Нести не мне уж одному.
При посылке цветов в мартовский вторник