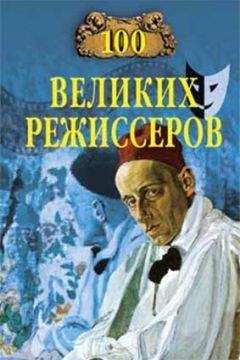На ревизию своей жизни имела право только она одна и никто больше. Ничего ни от кого не скрывала — просто не собиралась демонстрировать.
Если хотите видеть меня, смотрите, я актриса, я на сцене. Хотите понять — прислушайтесь к моим ролям. В них я вся. Больше у меня ничего нет. Остальное — любовь.
Она ни у кого не отбирала права на жизнь. Она умела ценить созданное другими. Но все это было до нее и ради нее. Чтобы протрубить о ее появлении.
Догадавшись, Таиров отнесся к этому с удивительным спокойствием, и это было единственной возможностью хоть как-то влиять на нее.
Ее место в мире никто не мог занять, оно было единственным.
Никаких предчувствий, никакой мистики, достаточно было взглянуть на себя в зеркало, услышать собственный голос, увидеть, как меняется выражение лиц, глядящих на нее, чтобы понять — я одна, я одна такая, я одна в мире. Алиса Коонен.
И уж тогда, будьте добры, позвольте принадлежать себе одной, потому что это единственное, что у меня есть.
Она никогда не корила себя ни в чем, не могла обвинить в душевной черствости — какая может быть черствость у актрисы, раскрывшей себя до конца?
Театр существовал, чтобы оправдать ее страсти, ее порывы, ошибки. Театр веками терпеливо, вежливо ждал ее появления и дождался.
Все остальное было до нее. Там и осталось.
Если бы ей сказали, что она недосягаема, не поверила бы. Каждый день ее гримировали, разгримировывали, поддерживали руки, чтобы помочь надеть платье. Она была вполне досягаемой, когда позволяла земле прикасаться к своим обнаженным подошвам, бегая на отдыхе по деревенскому лугу, она была досягаема, и уж вполне досягаема она была, когда обнимала любимого человека, вглядываясь ему в глаза. Она конечно же была досягаема, но так, что об этом никто не знал.
— Аличка, Алиса, Алиса Георгиевна, Коонен! — вот и всё, что донес ветер, а ему безразлично, что доносить. Донеслось только это — с перечнем ролей, наград, триумфов. Донеслось только это невообразимо загадочное имя — Алиса Коонен, Бог знает откуда взявшееся. По отцу — фламандка, по матери — русская, она могла бы жить где угодно, спрятавшись в звуках собственного имени, она и родилась где-то внутри него. И то, что мы почти не слышим это имя сейчас, ничего не значит. Просто она решила быть неслышимой, она играет там, в себе самой.
Смешные люди, они и не догадывались, что видели не царицу, не комиссара, не беспризорницу, не прокаженную в исполнении Алисы Коонен, а ее саму, предъявленную в десятках ролей, подошедших ей — ее намерениям, ее страстям, ее предчувствиям, что ей принадлежит право стоять высоко-высоко над миром, сверкая холодным недосягаемым блеском. Каково ему было жить в этом отраженном свете?
С такой уверенностью в себе она пришла в Художественный театр, потом ушла из него, согласилась на бредовое предложение Марджанова и теперь направлялась в так называемый Свободный театр — от кого, от чего свободный? — на свою первую репетицию — к кому, порывая с прошлым, — зачем, навстречу своей доле, а вот какой, это уже никого не касалось, об этом в дневнике, в дневнике, а страницы-то оборваны, а главные слова замазаны густо-густо фиолетовыми чернилами…
Она разглядывала его бесстрашно. Будто старшая. На самом же деле была моложе на два года. Зато служила в Художественном театре! Так что он был в сравнении с ней совсем ребенком.
Поначалу, когда узнала, что ставить будет он, попыталась возмутиться, но Марджанов взмолился:
— Алиса, дорогая, попробуйте, придите на первую репетицию! Поверьте мне, он мастер, я видел его работы, настоящий мастер.
Выдержав паузу, она согласилась. Согласилась не репетировать — приглядеться. У нее всегда была возможность уйти. Кто на свете ее свободней?
Она любила вдохновенных мужчин. Талантливые в работе они преображались и начинали напоминать ей коней, метались по лугу, под солнцем, отбрасывая тени.
Она искала в нем талант, вдохновение, оглядывала его как мужчину.
Он оставался спокойным, слушая музыку в оркестре, делал какие-то свои пометки в записной книжке.
«Хочет показаться взрослым», — подумала она.
Ей захотелось зевнуть и выйти, пусть мучается, что не сумел увлечь, но, подумав, что это слишком, она расслабилась в кресле, постаралась вытянуть ноги, сидела в равнодушной позе.
Какая дыра! Трудно представить, что здесь начинал Художественный театр — этим ее тоже попытался увлечь Марджанов.
— Идем по следам Художественного, но к другой цели!
При чем тут Художественный? Там был Станиславский, а здесь этот аккуратный молодой человек с умненьким личиком. Кажется, он даже и не попытался понравиться ей. Удивительно, о каком творчестве в этом неуютном сыром сарае может идти речь. Даже музыка Эрнста фон Донаньи, которую днем раньше мама проиграла ей на рояле, теперь разонравилась. И люди вокруг чужие.
Она прикрыла ладонью глаза, из-под ладони стала рассматривать сидящих в зале, будущих своих партнеров по спектаклю. Ни одного приметного лица, ни одного известного, а Марджанов говорил о знаменитостях первой величины!
Прав Немирович — Марджанов приятный, но легкомысленный человек, довериться ему нельзя.
«При чем тут Марджанов? — подумала она. — Меня привело сюда совсем другое».
И тут же вздрогнула, вспомнив крысу, которую пронесли мимо нее в огромной крысоловке.
— Здесь их полным-полно, — сказала женщина с крысоловкой. — Фундамента никакого нет, вот по земле прямо в театр и бегут, травить их надо.
Она второй раз в жизни видела крысу, первый раз — остов ее, почти истлевший, на деревенском дворе, вторую — сейчас, придя работать в этот театр.
И вдруг ей показалось, что он лукаво взглянул в ее сторону, скользнул взглядом.
Она выпрямилась, приготовилась ответить, но он стоял, как и раньше, вполоборота, продолжая слушать музыку.
«Лысеет, — подумала она. — Приноровился странным образом зачесывать волосы, скрывает».
И это собственное бестактное наблюдение настолько ее позабавило, что она позволила себе улыбнуться.
Тут кто-то шепнул ей сзади:
— Алиса, не будьте такой важной, вам не идет.
Она быстро вскинула голову, чтобы обернуться и взглянуть, кто осмелился, но Таиров неожиданно спросил:
— Вас что-то развеселило в музыке, Алиса Георгиевна?
— Нет, просто подумала о своем, — сказала она, удивляясь, что он заметил. — У вас на репетициях запрещено думать о своем?
Ей показалось, что она ведет себя вызывающе, да еще этот, шепчущий сзади… но Таиров, выждав немного, сделал еще одну пометку в блокнотике и ответил:
— Нет, почему же, музыка здесь именно для того, чтобы у вас возникали собственные мысли.
Так она и не успела разглядеть, кто шепнул ей сзади. Может, там и не было никого?
Музыка отзвучала, музыканты по привычке не присутствовать при беседах режиссера с артистами задвигались, расшумелись, вставая, попытались устроить перерыв, но Таиров остановил их:
— Нет, господа музыканты, если уж вместе, так вместе, вы тоже послушайте.
И стал говорить о мимодраме, то есть о том, что они здесь затевали.
У нее был уже немалый опыт движенческих спектаклей, правда, маленьких, в основном по капустникам Художественного театра, и она это занятие любила, она любила подчинять себе собственное тело и к чему-то подобному готовилась, придя на эту репетицию, но, прислушавшись, поняла, что он предлагает что-то другое, причем легко находит слова, чтобы сделать для нее это другое понятным.
— Жест должен быть не мелким, иллюстративным, не подменяющим слова, как у глухонемых, — говорил он. — Тем более не символическим, условным, как в пантомиме. Он вообще не подменяет собой слово, а рождается в тот момент, когда слово уже ничего не способно выразить. Он возникает из тишины, наполненной страстями, в нее же уходит. Этой попытке выразить, чем полна душа в этой тишине, и будет служить жест. Но вы не одиноки, с вами музыка. Мелодия будет возвращать к внутренней теме, ритм — организовывать жест.
— И все-таки это что, балет? — не выдержал и перебил его какой-то долговязый в первом ряду. — Мы должны протанцевать свои роли?
Он, не глядя на долговязого, сказал:
— У нас будет время, не стоит торопиться. Это не балет, вы не балетные артисты, я не хореограф, и, хотя балет я очень люблю, к помощи хореографа в этом спектакле мы вообще прибегать не станем. Движение, жест найдем сами. Балет — это сумма знаков, уже знакомых танцовщикам, каждое чувство выражается в определенной форме, мы же должны найти форму реальной, глубокой, возникшей в крайней ситуации эмоции, очень земной, очень человеческой эмоции, но раскрытой нами до конца.
«Ах, Айседора Дункан, — подумала Коонен. — Ну, я-то как-нибудь сумею, а вот что будут делать остальные?»