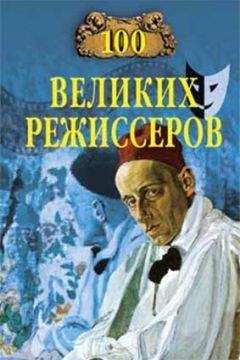«Ах, Айседора Дункан, — подумала Коонен. — Ну, я-то как-нибудь сумею, а вот что будут делать остальные?»
И она сочувственно оглядела присутствующих.
— И не Айседора Дункан, — сказал Таиров. — Хотя я тоже очень ее люблю. Но она все же танцовщица, а мы драматические артисты. Здесь смена аффективных ситуаций — и Пьеро, и Пьеретта, и Арлекин существуют на пределе человеческих возможностей. Мы будем искать жест конкретный, обобщенный и предельно выразительный. Жест трагедии. Он должен иметь три измерения, быть объемным, как в скульптуре.
«Что он имеет в виду? Люди и без того живые скульптуры. Подчеркнутый скульптурный жест? Что значит — должен быть виден его объем. Что еще за объем?»
Она почему-то представила себе часы и минутную стрелку, скользящую по циферблату. Она сама стала этой сдерживающей собственное движение стрелкой.
— Пьеро уговаривает Пьеретту не выходить замуж за Арлекина, но Арлекин полон страстной мужской заносчивой силы. Она любит Пьеро, но не способна отказать Арлекину и только во втором акте понимает, что оставила умирать своего настоящего возлюбленного, она убегает со свадьбы, но Пьеро уже мертв. Она пытается вернуть его к жизни, начать всё сначала, воображает свою свадьбу с ним, танцует с мертвым и, в конце концов, умирает рядом. Иногда мне кажется, что этот вечный треугольник обнаруживается в каждой настоящей пьесе. Сыграв его до конца без слов, легче будет играть в классической драме. Пьеро, Пьеретта, Арлекин — пружина жизни. После того, как я расскажу и обозначу немного общую мизансцену всех трех актов, мы, не спеша, начнем импровизировать. Повторяю, не спеша, здесь нельзя ничего пропустить. Чувства подлинные, не условные, их нельзя демонстрировать — только пережить.
«Он говорит, как у нас в Художественном, — подумала она, забыв, что уже распрощалась с МХТ. — „Ничего не пропустить“. Но что здесь можно пропустить — несколько тактов? За что можно зацепиться, чтобы развить существование? Одно безмолвие».
Она попыталась представить себя в этом пространстве, свою фигурку, беспомощно стремящуюся за Арлекином, безвольно оглядываясь на неподвижного Пьеро, перебрала в памяти танец Пьеретты с мертвым возлюбленным и безумно, безумно пожалела Пьеро.
— Да, да, Алиса Георгиевна, — сказал он. — Вы правильно чувствуете, только, пожалуйста, не себя, не себя, а Пьеро, Пьеро, — сказал он. — Не себя, Алиса Георгиевна, а Пьеро, вы правильно понимаете, только, пожалуйста, смотрите на меня, смотрите…
Оркестр снова заиграл. И он, продолжая объяснять, поднялся на сцену и стал не то чтобы показывать, как-то намечать их поведение, строить общую мизансцену. Уже кружился в серебристой пыли бал Арлекина, и он двигался внутри бала как-то неназойливо, неагрессивно, а неожиданно для нее очень приятно, даже, как ей показалось, с мягкой грацией. У него обнаружился опыт движения вполне актерского, актерски убедительного, возможно, немного провинциального, с небольшой примесью рисовки, красивости, но что удивительно, — все это было у него собственное, не с чужого плеча, он совсем неплохо показывал, рисовал собой в пространстве, совсем, совсем неплохо.
«Только бы она не ушла, — думал он. — Я не сумею, когда она перестанет смотреть, как она смотрит, неужели ей интересно то, что я делаю, но это же так элементарно, так далеко от того, что должно быть, что начнет делать она сама, я здесь только для нее, как же она смотрит, Боже мой, и как хорошо, что здесь больше никого нет, только она и я».
Он продолжал показывать и говорить, говорить и показывать, и она, действительно, постепенно начала забывать, что вокруг сидят другие люди, партнеры, и тихо-тихо, подталкивая впереди себя воображение, мысленно поднялась туда, к нему на сцену, и пошла рядом.
* * *
Они жили в тишине, под музыку Донаньи, в то время как театр рядом существовал очень шумно, — Марджанов репетировал «Прекрасную Елену» Оффенбаха, Санин — «Сорочинскую ярмарку» Мусоргского, пели опереточными голосами артисты, ревели привезенные из Малороссии волы. Свободный театр заявлял о себе громко, так что из соседних с садом особняков стали поступать жалобы на безобразие, творящееся в саду. Действие «Сорочинской» проникало в открытое пространство, и хозяйке дела, Суходольской, приходилось платить всем — владельцам сада, полицмейстеру, актерам, музыкантам, всему этому взбесившемуся по воле ее родственника стаду, грозившему затоптать состояние и мужа, и ее собственное.
— Костя, — говорила она дрожащим голосом просительницы. — Окстись! Что ты со мной делаешь, Костя, умерь аппетиты.
— Еще совсем немного, тетушка, — молил Марджанов, хватая тетку за локоть и обцеловывая руку. — Через два месяца вы будете самым знаменитым человеком в Москве, деньги хлынут рекой.
— Умерь фантазию, Костя, — говорила уже совсем другим тоном Суходольская. — Поставь предел своей выдумке. Поверь мне, ни твоя примадонна, ни эти животные славы нам с тобой не принесут. Мне говорили знающие люди…
— Вы опять о своих стукачах, — лицо его стало непримиримым, он смотрел на тетушку как на врага. — Я просил вас не подсылать своих осведомителей на репетиции, что они понимают в искусстве, я вообще велю закрыть зрительный зал для посторонних, я и вас запрещу пускать.
— Константин, что ты говоришь, — вразумляла она племянника испуганно, но он, уже отмахиваясь и хватаясь за сердце, бежал по направлению зала и так громко хлопал дверью, что и без того картонное здание «Эрмитажа» грозило сложиться.
Она уходила, ругая себя за откровенность.
По дороге боязливо прислушивалась к звукам рояля из зала, где репетировал Таиров, недоуменно пожимала плечами и шла дальше.
Но права оказалась она — не Марджанов. И «Прекрасная Елена», и «Сорочинская ярмарка» провалились, а вместе с ними в прекрасное небо над театром «Эрмитаж» улетучились ее капиталы.
Она перестала выяснять отношения с племянником, глубоко и по-настоящему обиделась на него за то, что сделал из нее полную дуру, на клятву, что с той тишиной, которую она подслушивала в малом зале, все будет иначе, только гневно отмахивалась — что может сделать тишина, когда ничего не вышло из такого оглушительного, устроенного им шума.
Но тишина победила. Успех был огромный. Глядя на «Пьеретту», она плакала и, придя поздравлять Коонен в гримуборную, даже пожаловалась на племянника:
— Лучше бы я доверилась вашему Таирову, он хоть и не наш, но умеет сделать что-то человеческое, приятное, а Костя с детства был с закидонами. Если бы не его служба в Художественном, я при всей моей любви к людям с грузинским темпераментом…
Тут она еще что-то хотела сообщить из своей абсолютно шовинистической программы, но, взглянув на продолжавшую сидеть перед ней безмолвно Коонен, вспомнила страдания Пьеретты, когда та пыталась танцевать с мертвым Пьеро, чтобы вернуть его к жизни, и уже совсем разрыдалась.
Таиров поставил еще один спектакль, «Желтую кофту», в духе китайского театра, где посреди сцены сидел суфлер, сдувал с подноса конфетти, изображая бурю, клал на пол палку, изображая дверь, и т. д.
Коонен играла Мой-Фа-лой, Цветочек сливы, и очень любила эту роль.
Все было настоящее, как вспоминала она в поздние годы, — дорогие шелка, ручные вышивки. Спектакль снова имел успех, но Свободный театр это не спасло, и Суходольская, несмотря на свою симпатию к Коонен и уважение к Таирову, с убытком в миллион рублей дело закрыла.
— Дура тетка, — сказал Марджанов. — Не могла подождать. Они, эти богачи, нетерпеливы, рассчитывают на мгновенную прибыль. А какая здесь может быть прибыль, какая от искусства прибыль в крошечном зале, сколько же должен стоить билет, она даже не заметила, что вошла в историю русского театра, неблагодарная. И занавес, жадюга, увезла, хороший занавес, бакстовский, теперь судись с ней…
— Выше нос, Алисочка, — сказал он, когда вместе с Таировым они пришли в уже не принадлежащий ему кабинет. — Я вас познакомил не зря, Александр Яковлевич задумал делать свой театр, он что, еще ничего вам не сказал? Тогда простите, простите меня, болтуна. В любом случае, как на это ни взглянуть, я ваш крестный отец. Все неплохо, а как вы думаете, все совсем неплохо.
И они поехали ужинать к Шустову, чтобы отметить с таким треском лопнувшее дело.
* * *
Что ж, как ни взглянуть, все идет к какому-то небывалому везению — театр откроется и это будет необыкновенный театр. И существование его обрадует одну-другую тысячу зрителей, но не отвлечет от страшных событий.
Мало на земле театров, начавших жить в первый год Первой мировой войны.
Еще не подбежал к автомобилю эрцгерцога Гаврила Принцип и на неверных ногах, пританцовывая от страха, не выстрелил в бедного Франца-Фердинанда и его беременную жену, не затрубили сбор военные трубы и не обменялись нотами об объявлении войны кузены, император Вильгельм и царь Николай. Еще только затевалось это кровавое месиво, приведшее к распаду мира, а Таиров с группой уцелевших после распада Свободного театра единомышленников, бродя по Москве в мечтах о новом театре, уже обнаружил на Тверском бульваре особняк братьев Паршиных и в присутствии Коонен, на какой-то эйфории необыкновенной нежности к ней, сказал своим: