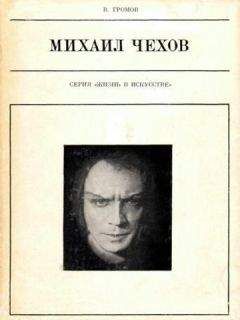След, оставленный великим актером в мировом кино, слишком скромен. Невольно сравниваешь это с неизгладимым следом, оставленным его искусством на русской сцене, где каждая его роль может быть зачислена в галерею классических шедевров, созданных великими русскими и зарубежными актерами. Это по праву может быть сказано и о последней сыгранной в Москве роли — Муромского.
ТРОГАТЕЛЬНЫЙ МУРОМСКИЙ
Удивительно интересной была работа Чехова над ролью Муромского в «Деле» А. В. Сухово-Кобылина. Она характеризовалась большими трудностями в процессе репетиций.
Роль явно очень волновала и увлекала Михаила Александровича и как бы не давалась ему. Он неоднократно и прямо говорил об этом. Обычно Михаил Александрович: ярко видел уже в начале работы внешний облик роли и, благодаря своим большим способностям в рисовании, легко мог сделать карандашный набросок. С ролью Муромского было совсем иначе.
— Как странно, — говорил он мне, — я его не вижу... То есть, не вижу целиком... Не представляю его фигуру, не знаю, какие у него руки и ноги. Не вижу, как он держится, какие у него жесты, какая походка. Почему-то вижу только вот это. — и он показывал много бумажек, на которых настойчиво повторялся один и тот же смешной непонятный рисунок: маленькое лицо в виде яичка (без прически, без глаз, носа и рта), а по бокам длинные, свисающие до плеч жиденькие бакенбарды. — Вот лезет в голову настойчиво такой эскиз грима. И отделаться от него не могу и, что с этим делать, не знаю.
В те годы я уже достаточно хорошо знал основные особенности работы Чехова и понимал, что каждая внешняя черта образа, увиденная им в воображении, тесно связана с внутренним постижением роли. За каждой такой внешней чертой непременно лежит та или иная глубоко постигнутая актером внутренняя грань роли. Эти грани, насколько можно было догадываться, с самого начала работы были связаны в сознании актера воедино, но для постороннего глаза этот синтез происходил постепенно и в большинстве случаев на генеральных репетициях.
В работе над ролью Муромского это видение отдельных черт образа и слияние их почему-то было особенно затрудненным. Почему? На этот вопрос легко ответить сейчас, когда роль уже сыграна, когда десятки раз я видел Михаила Александровича на сцене, играя в той же пьесе маленькую роль Парамоныча. Огромные затруднения возникли потому, что актер вольно или невольно — благодаря характеру своего дарования — почувствовал возможность так сыграть эту роль, чтобы она могла быть названа трагической. Но для этого надо было найти очень трудное сочетание предельно выразительного, простого внешнего рисунка с такой внутренней основой, которая давала бы актеру право на драматическое, почти трагическое исполнение этой роли.
Михаил Александрович мучился не только над рисунком лица и фигуры, он мучился и в процессе репетиций. Не мешает, однако, оговориться, что эти «мучения» вовсе не были мучительными и нервными; как всегда, работа Чехова освещалась неизбывным юмором и светлой увлеченностью. Этому в данной постановке помогало и то, что состав участников был очень сильный и. веселый: основными партнерами Михаила Александровича были С. В. Гиацинтова, В. В. Готовцев, А. М. Азарин, В. А. Подгорный, а в ролях чиновников много талантливой молодежи.
На репетициях Чехов усиленно искал в Муромском черты трогательного старика. Но так как до этого он сыграл уже немало ролей разных стариков, то новые поиски оказались весьма нелегкими. Очень часто после очередной репетиции Михаил Александрович вместе со своими партнерами с веселой безжалостностью подробно разбирал, какие черты и из каких прежних ролей заполняли сегодняшнюю репетицию. Выяснялось, что ни одна черточка из прошлого арсенала не пригодится, не выручит, что Муромский совсем особый старик и трогательность его тоже особая. Но какая?
И вот ответ был найден. Я никогда не забуду той радости, которая светилась в глазах Михаила Александровича, когда однажды он сказал мне:
— А ведь секрет оказался простой. Все дело в том, что Муромский — очень открытый.
— Открытый?! — не без удивления переспросил я.
— Да! Вот такой!
И вдруг на моих глазах безо всякого грима и костюма Михаил Александрович стал другим: глаза его широко, по-детски открылись, слегка приоткрылся рот, беспомощно и трогательно осела вся фигура, вопросительно разошлись в стороны руки: даже колени и ступни ног развернулись, тоже как бы открылись. И совеем уже новым, старческим голосом Михаил Александрович произнес имя своей дочери (по пьесе), любимой Лидочки: «Лидосська. Лидосська. ».
Все стало понятным. И впоследствии на спектаклях зрители рыдали над тем, что чудовищная, отвратительная бюрократическая машина ранит именно детски открытую душу, терзает безгранично доверчивое открытое сердце Муромского. Разгадка драматизма этой роли оказалась именно в том, что Муромский очень открытый в своей любви к родине, к людям. Более того: страстно верящий, что только так можно и должно жить!
Пример этой работы Михаила Александровича блестяще подтвердил его слова:
«Работая над ролью, каждый актер по-своему стремится, с одной стороны, овладеть различными чертами и свойствами данного образа, а с другой стороны, сознательно и подсознательно старается связать воедино все эти черты и свойства. Актер ищет как бы тот центр, куда сходятся все нити роли, фокус, где перекрещиваются все лучи ее. При этом актеру хочется назвать этот центр, этот фокус, найти яркое определяющее слово, которое связало бы в крепкий узел все беспокойные мысли о роли, помогло бы точно осознать ее тему.
В большинстве случаев такое волшебное слово актеру долго не удается найти. Почти все попытки подсказать его со стороны тоже не вполне устраивают или совсем не устраивают актера. Это слово непременно должно родиться у него самого. Оно может быть совсем не эффектным внешне. Со стороны оно даже может показаться наивно простым, не заслуживающим долгих поисков. Но дело заключается в том, что это слово много говорит самому актеру, волнует и вдохновляет именно данного человека-актера. И умный режиссер всегда поймет это и всегда умело поддержит актера в этот важнейший для работы момент».
Эти объяснения Михаила Александровича с ослепительной яркостью воплотились в его работе над ролью Муромского.
Как видел Муромского в «Деле» автор пьесы Сухово-Кобылин? «Дело» — вторая пьеса трилогии. После «Свадьбы Кречинского» прошло пять лет, и все эти годы бесконечно тянется оскорбительное «дело» Лидочки, дочки Муромского, бывшей невесты Кречинского. Тянется, не распутывается, а стараниями бюрократов-взяточников запутывается, все страшнее затягивается, как петля на шее Лидочки и ее отца.
За эти пять лет Муромский сильно постарел, «поисхудал, ослаб и поседел до белизны почтовой бумаги», измучился
заботами о своей ненаглядной, горячо любимой дочке.
Таким стареньким-стареньким, вызывающим сострадание с первого взгляда, и появлялся на сцене Чехов — Муромский.
Постановка этого спектакля Б. М. Сушкевичем была, несомненно, одной из лучших его работ. В содружестве с известным художником Н. А. Андреевым он нашел такое решение основной картины «Канцелярия», что зрители содрогались от бездушия и палаческой жестокости бюрократов.
В оформлении сцены «Канцелярия» не было ни стен, ни окон — были только шкафы. Много шкафов. Огромные, одинаковые, грязно-коричневые, они были поставлены на вращающемся круге сцены так, что образовывали мрачный, безвыходный, удушающий лабиринт. При точно рассчитанных поворотах круга шкафы оказывались в различных ракурсах, но идея лабиринта от этого становилась только еще более выразительной и давящей.
Так была найдена и сделана зримой атмосфера бюрократического застенка, на борьбу с которой отваживается дряхлый старик, сильный только своей душевной чистотой, горячностью сердца и верой в справедливость, верой наивной, почти детской.
Уже в первой сцене («Квартира Муромских») ясно выступали все эти качества Муромского — Чехова. Он нес их в себе с покоряющей искренностью. Растроганные зрители абсолютно верили, что никакие доводы многоопытного, мудрого приказчика Ивана Сидорыча не могли убедить Муромского бояться волчьих повадок бюрократов. Он только простодушно удивлялся:
— Возможно ли это?!
Даже когда отчаявшийся Сидорыч, наконец, «с силою» восклицал:
— Чем же они живут?!!
Муромский — Чехов с комической наивностью и убежденностью говорил:
— Жалованье государево получают и живут... и живут...
Повтор слов выражал непоколебимую веру в то, что так должно быть и не может быть иначе.