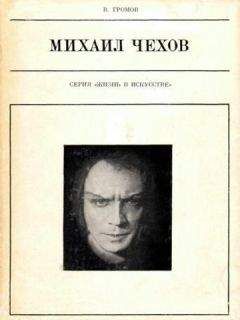Последний аккорд этой страшной сцены — знаменитый монолог Тарелкина. Даже он, несмотря на свою дубленую кожу, обезумел от жесточайшей расправы Варравина с Муромским. В устах талантливого исполнителя роли Тарелкина А. М. Азарина конец монолога звучал с большой силой и был завершением последней картины этого трагического спектакля:
— Взял бы тебя, постылый свет, запалил бы с одного конца на другой да, надевши мой мундиришко, прошелся бы по твоему пепелищу. Вот, мол, тебе, чертов сын!
Когда закрывался в последний раз занавес, зрители почти не аплодировали. Сначала это несколько смущало нас — мы чувствовали, что спектакль волнующий и острый, поэтому отсутствие аплодисментов вызывало у нас недоумение. Однако первые же беседы со зрителями все объяснили. Впечатление от всего спектакля, и особенно от Муромского — Чехова, было настолько сильным, что большинство зрителей не могло аплодировать, как обычно: им хотелось унести с собой навсегда всю глубину мыслей и чувств, которые они получили из спектакля и больше всего из последней сцены, сцены смерти Муромского. Люди самого разного душевного склада уходили из театра, унося огромное впечатление от спектакля. Демьян Бедный посвятил ему четверостишие:
ВОТ ЭТО ДЕЛО!
(К постановке в МХАТ 2-м пьесы Сухово-Кобылина «Дело»)
Вчера на «Дело» я попал в МХАТ Второй,
Где, зачарованный чудеснейшей игрой,
Поддакивал тому, что в публике гудело:
— «Вот это — дело!»
И вот маленькая записочка на клочке бумаги — так пишут поспешно, не в силах удержаться, тотчас после конца спектакля:
«Дорогой Михаил Александрович, вы чудесны в роли Муромского. Поздравляю вас с новой победой. И спектакль в целом — превосходный спектакль.
7-II 1927.
Привет. В. Мейерхольд»
Сезоном 1927/28 года заканчивается московский период творческой жизни Чехова.
Большой успех книги «Путь актера», вышедшей в начале 1928 года; первые репетиции «Дон-Кихота» в феврале — марте этого же года — все создавало впечатление активной творческой деятельности Михаила Александровича. Товарищи по театру, провожая его в летний отпуск, не знали, что в последний раз обмениваются с ним рукопожатием. Не знал и он... Так началась трагическая разлука актера с родной страной и зрителей — с любимым актером.
БЕЗ РОДИНЫ
Чехов оставил родину летом 1928 года.
Необоснованно звучат теперь слова некоторых о том, что его близкие, родные и друзья должны были отговорить его от этого шага, удержать, не пустить. Никто из близких не мог знать, что он решил уехать навсегда, потому что и сам он тогда вовсе не решил это сделать. А так как Чехов почти ежегодно уезжал на лето за границу, то и на этот раз не было причин его отговаривать и удерживать. Даже осенью, когда пришло странное письмо, расстроившее всех, кто его любил (письмо о том, что он на год остается в Германии), даже и тогда Михаил Александрович не решил ничего окончательно.
Это очень точно выражено в мудрой и объективной статье А. В. Луначарского «О театральной тревоге. Путь М. А. Чехова», напечатанной в газете «Вечерняя Москва» 15 сентября 1928 года: «Со всех сторон нервно спрашивают о том, правда ли, что Чехов подписал долголетний контракт с Рейнгардтом, что он, может быть, вовсе не вернется на родину? и т. д. Прежде всего, я должен ответить, что все это сомнительно. Мы еще не имеем абсолютно точных данных о том, какие обязательства принял на себя Чехов за границей и какие планы он себе ставит. Более вероятно, что он сам не уяснил себе еще этого».
Трудно было в те дни сказать более правильно. Очень верно определяет Луначарский мысли, стремления и основные недочеты творческих позиций Чехова: «Нам немножко смешно, когда говорят обо всем “высоком и прекрасном”, но Чехов всегда живет в атмосфере высокого и прекрасного, по крайней мере, в сфере своего творчества. Ему мерещатся большие обаятельные образы, спектакли какой-то великой значительности. Вероятно, для него не совсем ясно, что собственно будет проповедовать этот преображенный и необыкновенно серьезный и, можно сказать, даже торжественный театр. Но только он знает, что эти возвышенные и внутренне умильные формы театрального творчества должны могуче волновать публику и высоко поднимать ее над повседневностью... Чехову хочется “звуков сладких и молитв”. Ему присуще сознание того, что восторженный театр с полетами в царство великодушия, философской мысли и красоты имеет и свое какое-то социальное значение. Что же хотите, нет у этого человека того понимания реальной окружающей действительности, которая необходима для реалистического, публицистического театра. Но разве от этого Чехов, как артист, становится менее ценным? Разве перед нами не возникают сейчас его потрясающие образы, созданные его актерским гением, социальное значение которых вне всякого сомнения?»
Взволнованный этой статьей, Чехов прислал Луначарскому огромное письмо, в котором подробно излагал свои актерские и режиссерские мечты и просил предоставить ему возможность организовать в Москве театр классического репертуара. Свое горячее желание он мотивировал тем, что классические пьесы вызывают мысли и чувства, очень нужные нашему обществу: «Торжественность, сила, героизм и сознательное стремление к высокой цели (т. е. все элементы революции) встречаются на каждом шагу в классической литературе. В наши дни и в нашем обществе классические вещи не могут прозвучать иначе, чем революционно, иначе, чем на прославление, возвышение и укрепление человека». Но для решения таких огромных задач, как Чехов убедился на своем опыте, играя Гамлета, и режиссеру и актеру нужна длительная и сложная работа над собой. Прежде всего надо отыскать пути к большим чувствам, необходимым для трагедии. Для всех этих исканий, считает он, нет лучшего материала, чем классические пьесы.
Чехов не был противником современного репертуара. Его не удовлетворяло качество пьес, с которыми ему приходилось знакомиться. Его требовательность особенно обострилась после того, как постановку «Фрола Севостьянова» Ю. Родина и П. Зайцева постигла неудача, хотя Михаил Александрович горячо и искренне старался выручить эту слабую пьесу.
«... Часто пресса упрекала меня, — писал он Луначарскому, — в моих тенденциях “отрыва от действительности”. Если я действительность, строгую закономерную действительность стараюсь пронизать ей же свойственной романтикой, горячими чувствами, пламенными порывами жизни, то этим я не только не отрываюсь от нее сам, но и привлекаю, призываю многих и многих к живой действительности.»
В этом же письме у Чехова вырвалось признание: «Я не найду в себе больше сил работать бесплодно в театре и быть вдобавок на подозрении, как человек, всеми правдами и неправдами проводящий на сцену “мистику”. Я художник — это мое общественное лицо. Мои художественные замыслы известны. Как личность — я имею любовь к религиозным вопросам. Но это дело мое личное. В смысле “мистических настроений”, идущих от меня со сцены (как утверждают газетные критики), я должен сказать, что моя забота о том, чтобы не быть назойливо “мистичным”, — больше и умнее, чем забота газетных критиков. Но если в моем творчестве есть краски, которые не нравятся многим около театра стоящим людям, то тут я ничего поделать не могу. Из песни слова не выкинешь. Я не проповедник метерлинковской или андреевской мистики, но как художник я никогда не откажусь от того, что если на сцене является “дух отца Гамлета”, то его надо сделать, чтобы было впечатление “духа”, а не переодетого актера. Это не “мистика”, а художественный вкус».
Заканчивая длинное письмо «о самом дорогом, волнительном и близком», Чехов пишет, что ответ Анатолия Васильевича решит его судьбу.
Такая постановка вопроса в письме из-за рубежа неверна с многих точек зрения. Могло создаться впечатление, что Чехов ставит какие-то условия, предъявляет требования, хотя письмо написано скромно и в самом уважительном тоне.
Видимо, были веские причины, почему вопрос Чехова в тот период не был решен положительно. Но разве могло это быть поводом для невозвращения на родину?
В театральных кругах в те дни было известно только о сложном внутреннем кризисе художника, о чем свидетельствует его письмо труппе МХАТ 2-го, написанное в тот же период:
«. Оставаться в театре в качестве актера, просто играющего ряд ролей, — для меня невозможно, потому что я уже изжил стадию увлечения отдельными ролями. Меня может увлекать и побуждать к творчеству только идея нового театра в целом, идея нового театрального искусства».
Отход от ролей, охлаждение к актерской работе — это уже трагично для такого артиста, как Чехов. Но почему не искать путей к обновлению сценического искусства с прежними товарищами по театру?