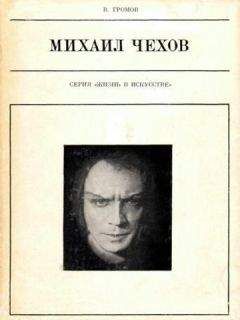— Жалованье государево получают и живут... и живут...
Повтор слов выражал непоколебимую веру в то, что так должно быть и не может быть иначе.
И хотя Сидорыч настойчиво указывал Муромскому на живой пример — на чиновника Тарелкина, который в этот момент стремглав влетел в квартиру Муромского, спасаясь от кредитора, старик упрямо стоял на своем и слышать не хотел, что надо дать взятку, и крупную взятку.
После долгих уговоров Чехов — Муромский, тяжело вздыхая, спрашивал:
— Когда же ехать?
— Да хоть завтра.
— Да нет; постой. нельзя. Завтра праздник. завтра и в лавках не торгуют.
В этих словах звучало наивное желание бедняги старика отсрочить ужасную поездку. Но Иван Сидорыч отвечает решительно и хлестко:
— В лавках не торгуют, а в судах — ничего — сударь — торгуют.
И старик, собрав все свое мужество, отправлялся в самое логово, к начальнику канцелярии Варравину. Тарелкин обещает ему устроить эту встречу.
Сцена Муромского — Чехова и Варравина — Готовцева потрясала зрителей. Это столкновение ребенка и крокодила, жертвы и палача. Открытого чистого сердца и наглого взяточничества среди мрачного лабиринта шкафов-глыб невозможно было спокойно смотреть: хотелось кричать, броситься на сцену, обрушить весь гнев на твердокаменного негодяя Варравина.
Встреча с Варравиным была своеобразным откровением для Муромского. Чехов сильно подчеркивал, что Муромский впервые увидел своего врага лицом к лицу, впервые заглянул в звериное нутро взяточника, требующего двадцать четыре тысячи серебром. Но не страх, не робость, а возмущение, благородный гнев вспыхивали в Муромском — Чехове. Когда Варравин уходил и на смену ему появлялся Тарелкин, Муромский грозил разгромить все козни бюрократов:
— Еду — к кому ни есть еду!!! Не камни же люди. За правого бог!
Он заявлял это так решительно, что зрителям казалось: вера этого старика-ребенка победит, должна победить! Иначе, как же жить на свете?
Но его ждет страшная ловушка: по утрам князь всегда сильно страдает желудком, зол, как черт, на все и усиленно пьет содовую. Вот в этот-то час и задумывает Варравин допустить Муромского к князю. А Тарелкин и рад стараться:
— Если угодно — то в самую содовую и попадет.
В начале второго акта — снова квартира Муромских, сборы для похода к князю; эта игра ва-банк, последняя ставка Муромского. С каким необыкновенно светлым упрямством, с какой святой убежденностью в победе облачался Муромский — Чехов в свой военный мундирчик и в высоченные лакированные ботфорты, с какой гордостью надевал все свои ордена и медали!
А затем его ждало именно то, на что рассчитывали Варравин и Тарелкин: горе тому, кто в это время сунется к князю.
Грозным шипением встречает чиновников, принесших бумаги на подпись, слуга князя Парамоныч:
— Тсссс, тише!!.. Все еще ходит — стало не готов. Один, как буря, ходит.
И чиновники в панике исчезают.
Но Тарелкин вручает Парамонычу целковый и просит впустить Муромского к князю именно сейчас. Опытный в этих делах, страж князя быстро догадывается:
— Стало, не гнется? — попарить надо — давайте, мы попарим!
И Муромский — Чехов оказывается перед щупленьким князем — Подгорным, желчным, раздраженным, не терпящим ни малейшего возражения. Обмен репликами между князем и Муромским сразу же превращался в ожесточенный бой титулованного ничтожества и высокого благородства. Когда князь обрывал просьбы Муромского визгливым криком:
— Какое имеете право — так говорить?
Муромский — Чехов, потрясенный до слез, с величайшим достоинством, стирающим в прах вельможного дурака, тихо произносил:
— ... мои терзания, слезы, истома!.. разорение моей семьи. вот мое право. Дочь я свою защищаю, вот мое право!.. я, армейский капитан, принимал француза на грудь, а вас тогда таскала на руках французская мамка!..
И благородное возмущение, казалось, затопляло весь театр, когда Варравин, успокаивая растерявшегося князя, шептал ему оскорбительные слова о Муромском:
— Он в голову ранен, ваше сиятельство!
Как гром звучал тогда старческий голос Муромского — Чехова:
— Нет, чиновник! Я в сердце ранен!.. Кровь моя говорит во мне... Правду я говорю! — она у меня горлом лезет — так вы меня слушайте!
Перепуганный, трясущийся князь спасается бегством. Шатаясь, уходит Муромский — Чехов, не сознавая еще, что он наделал и добился ли чего-нибудь или нет.
А князь — Подгорный возвращался на сцену веселенький, напевая моцартовскую мелодию: «Мальчик резвый, кудрявый, влюбленный.». После встряски в сцене с Муромским ему сразу полегчало. Как Варравин говорит, «лучше содовой подействовало». Он даже снисходит до того, что приказывает назначить дело на пересмотр и на доследование.
Но это-то и обернется для Муромских трагедией.
На тихую квартирку Муромских обрушивается жуткая весть. Варравин вывернул наизнанку распоряжение князя: он снова вздыбил все грязное, раздутое «дело» и собирается пригласить Врачебную управу для медицинского освидетельствования Лидочки, чтобы установить, не была ли она в предосудительной связи с Кречинским.
Ужасом веет от восклицаний горсточки людей, которых вот-вот раздавит чиновничья машина:
— Это целый ад!.. Они этого сделать не могут. Закона нет.
Задыхаясь от справедливого возмущения, Нелькин кричит:
— Закона!.. О чем говоришь. О какой гнили!.. Вы в лесу. На вас напали воры. над вами держат нож. О, нет! Сто ножей!! Отдавайте до рубашки. до нитки. догола!!
И они отдают последнее: все, что есть у Муромского, немногие драгоценности женщин, скромные сбережения Ивана Сидорыча.
Именно здесь и звучат слова о деньгах, которые автор поставил эпиграфом своей пьесы:
— Вот они! Пропади они, чертово семя!
Казалось, что эта длинная сцена проносилась в один миг. Муромский — Чехов, нагрузившись всем, что собрано, восклицал слабым голосом: «В путь!» и умолял Ивана Сидорыча:
— Ты с нами ступай. а то я, брат, плохо ви-и-жу, и на уме-то у меня что-то темно (трет себе голову) стало!.. Господи, воля твоя!
И его уводят под руки.
Вся последняя картина написана Сухово-Кобылиным с ошеломляющей силой. Это приход Муромского к Варравину, сцена, от которой плакали не только неискушенные зрители, но и такой глубокий знаток театрального искусства, как А. В. Луначарский. Невозможно было без слез смотреть, как Муромский — Чехов, из последних сил добравшийся до канцелярии, перекладывал пачки денег из карманов в пакет, простодушно прятал его в свой большой военный картуз и с какой-то торжественностью шествовал в кабинет Варравина, неся картуз с пакетом денег в наивно вытянутых вперед руках. Он, словно с горячей молитвой, произносимой про себя, нес жертву на алтарь жестокого идола. Теперь или жизнь, или смерть. После очень короткого пребывания у Варравина Муромский — Чехов возвращался измученный пережитым волнением, но счастливый.
И вдруг из своего кабинета с наигранным благородным гневом стремительно появлялся Варравин:
— Вы оставили у меня в кабинете вот. деньги!.. Вы меня хотите купить?.. Вот вам ваши деньги и убирайтесь с ними
вон!
И бросал пакет к ногам Муромского. Но. что такое? Где же деньги?
Муромский — Чехов поспешно раскрывал пакет. Он перебирал жалкие остатки ассигнаций и с нарастающей силой повторял.
— Их тут нет!! Нет!! Их нет! Он их взял!
Забывшись и хватая себя за голову, Муромский — Чехов взывал о помощи, но тщетно: глухая тишина душит его. Тогда, ударяя себя по голове, он едва мог произнести:
— А-а-а-а! Капкан!.. Острог. Разбой!!
И вдруг выпрямлялся с огромным усилием, но так грозно, что даже каменный Варравин начинал дрожать, особенно при вскрике Муромского:
— Ведите меня к государю. Давайте сюда жандармов!.. Полицейских!.. по улице!.. без шапки!.. мы сообщники — мы воры!
С неожиданной силой Чехов хватал и тащил за собой Варравина:
— Пойдем!! Мы клятвопреступники. Куйте нас! слово и дело!!. Куйте нам вместе. К государю! я ему скажу. Ваше. Ва. Ва. ше.
Голос Муромского — Чехова страшно слабеет и прерывается рыданиями. Старик качается, еле держится на ногах, но у него хватает сил, чтобы бросить тощий пакет в лицо Варравину. А потом, совсем ослабев, он опускается на пол. Заметив, что чиновники снова подбираются к пакету, Муромский — Чехов срывает с себя ордена и бросает их, прохрипев:
— А-а-а. Подлецы.
Это последняя вспышка, за ней обморок и смерть. Издевательством и над этой смертью и над Тарелкиным звучат ханжеские слова Варравина:
— Судите сами. Ну, прими я от него деньги, а он помер — ведь совесть бы замучила. Слава богу, я деньги-то возвратил, ей, ей, бог спас!..
Последний аккорд этой страшной сцены — знаменитый монолог Тарелкина. Даже он, несмотря на свою дубленую кожу, обезумел от жесточайшей расправы Варравина с Муромским. В устах талантливого исполнителя роли Тарелкина А. М. Азарина конец монолога звучал с большой силой и был завершением последней картины этого трагического спектакля: